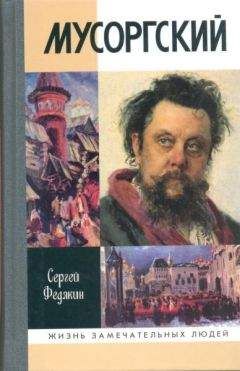Скрябин - Федякин Сергей Романович
Мирами дышит бесконечность,
Объяли звоны тишину.
Последние две фразы со «звонами» — из самых удачных и в то же время очень «скрябинских» строчек. Эти звоны, лишь названные в тексте, вошли в его музыку с «Мистерией», но пришли из русской истории и русского сознания. И сама «идеология» текста тоже двинулась в эту сторону.
В «Предварительном действе» идея «Мистерии» начинает местами совпадать с Апокалипсисом, где предуказана и гибель, и в то же время «новое небо» и «новая земля». В тексте «Предварительного действа» появится отрывок из либретто некогда писавшейся оперы: «Религий ласковый обман меня давно уж не пленяет». Но, как отметит позже Борис Шлёцер, совпадение это особенно важно потому, что в «Действе» этот кусок произносится как отрицательная доктрина. А сюжет об учителе, убиваемом толпой, как и отдельные строки, невольно вызывает в памяти хоть и весьма смутный, но образ Христа:
За вас молюсь я, заблудившиеся братья,
Благословляю ненавидящих меня,
Благословляю ваши страшные проклятья,
Чрез них причастник я небесного огня!
И вы познайте, о познайте сладость муки!
Ищите сердца вы страданье полюбить,
Изведать скорбь, изведать терния разлуки;
И вы обрящете спасительную нить!
* * *
Если в стихах заметно и старание, и муки (не всегда творческие), и «выделывание» текста, то в музыке Скрябин чувствует себя владыкой. 22 ноября на благотворительном концерте он исполнил множество поздних вещей, в том числе «прелюдию-смерть» и 9-ю сонату. Держановский, сидевший в зале и так тянувшийся к новому звуковому миру Скрябина, пишет Мясковскому: «Играл гениально, как никогда». Если бы он мог услышать то, что Скрябин теперь сочинял для «Предварительного действа»! Композитор опять готовил что-то небывалое. Для будущей партитуры он уже начал склеивать нотные листы. Когда композитор показывал эти заготовки в шестьдесят строк, то улыбался:
— Правда, хорошенькие?
И сразу жаловался, насколько неудобно писать на столь огромных листах. Оркестр предполагался невероятных размеров. Кроме того, должны были участвовать несколько хоров и солисты.
Большая часть музыки, сочиненная зимой 1914/15 года, была сыграна Сабанееву и вызвала у того настоящее потрясение. Когда друзья композитора после его смерти просмотрят оставшиеся черновики и заготовки к «Действу», они будут жестоко, до отчаяния разочарованы: там запечатлелись только ранние наброски и наметки гармоний. Всю музыку Скрябин держал в голове. Ее он унесет в могилу. Теперь попытаться если не «услышать», то «представить» или «вообразить» последнюю музыку Скрябина можно только по воспоминаниям Сабанеева.
«Помню я очень хорошо один вечер, проведенный в этот военный год с Александром Николаевичем. Последние дни перед этим он очень много, ежедневно писал у рояля, видно было, что у него кипела творческая работа. В этот вечер мы долго сидели без него, и до нас в столовую доносились отрывочные звуки его «примеряемых» гармоний — те скудные данные, которые он, обычно столь целомудренный в звучностях при процессе композиции, доставлял нашему слуху.
Александр Николаевич появился поздно к нашему столу, он имел вид несколько усталый… В этот вечер я засиделся долго. Друзей никого не было — они разошлись раньше, Татьяна Федоровна скоро ушла спать, ссылаясь на головную боль. Мы играли в шахматы, и, кончив партию, я собрался домой, но Александр Николаевич меня остановил.
— Я вам хочу показать тут кое-что, — сказал он. Я знал, что это наверное что-нибудь из того, что он сегодня «насочинял». Мы пошли в темный кабинет, сохранивший еще следы только что брошенной работы.
Сидя у рояля, Александр Николаевич стал мне показывать эскизы «Предварительного действа». Тут было много уже несколько знакомого, были эпизоды начала, с «произнесением» на фоне тремоло. Затем Александр Николаевич стал играть что-то новое, «иное», мне незнакомое…
— Вот скажите, какое у вас впечатление! — говорил он, играя. Это был, помню, довольно длинный эпизод несказанной красоты, в музыке которого я сразу уловил нечто общее с той самой знаменитой Прелюдией ор. 74 № 2, которая оставила во мне такое глубокое впечатление в прошлом сезоне… Это были таинственные, полные какой-то нездешней сладости и остроты медлительные гармонии, изменявшиеся на фоне стоячих квинтовых басов… Я слушал с замирающим чувством… Там были какие-то совершенно необычайные переходы и модуляции… Впечатление было от этого, пожалуй, самое сильное из всего, что я слышал от Скрябина, сильнее и прежних впечатлений от Третьей симфонии, от 6-й сонаты, от «Прометея», от Прелюдии ор. 74…
— Это у меня когда появляется смерть, — сказал пояснительно и тихо Александр Николаевич. — Вы помните, я, кажется, вам читал эти отрывки, — он как раз мне их еще не читал, очевидно читал кому-нибудь из друзей и спутал. — Смерть-сестра, белый призрак… — Он тихо продекламировал в тишине:
Мой облик лучистый, мой облик сверкающий —
Твое отреченье от жизни земной…
— Вот это появление смерти… Я еще не все тут закончил, там так дальше будет…
И он продолжал играть эпизод. Затем просил меня вновь держать в басу какую-то на этот раз уже не квинту, а какую-то сложную комбинацию звуков и продолжал играть что-то все разрастающееся… Быть может, это было вообще лучшее, что дала его творческая фантазия. Это был какой-то колоссальный подъем, лучезарный, как в «Поэме экстаза», но более величественный и более сложный по гармониям. Даже были трели с группетами, напоминавшие такие же трели в конце «Поэмы экстаза». Какой общий тип имела эта музыка? Скорее всего можно было ее стиль определить как нечто среднее между прелюдиями ор. 74, Первой и Второй, иногда Четвертой — видимо, эти маленькие осколки именно родились в процессе композиции этих больших эскизов… Иногда было что-то напоминающее «Гирлянды» из ор. 73. Нежная, хрупкая звуковая ткань, в которой звучало какое-то острое, до боли знойное настроение… Скрябин все больше и больше увлекался сам, играя… Мне казалось, что я попал в какой-то океан новых звуков… Многое было похоже на только что выше упомянутые его же вещи, но многое было совершенно внове… Эти «гармонии смерти» не выходили у меня из головы. Как будто отвечая моим желаниям, Александр Николаевич вновь вернулся к ним и снова проиграл весь этот эпизод с его волшебными гармониями… Самое новое, что было в этой всей музыке, — это какая-то полная опрозрачненность музыки, это какое-то полное обесплочение ее, отмирание даже того утонченного эротизма, который был у него ранее… Казалось, что попал в какое-то зачарованное, священное царство, где звуки и свет как-то слились в один хрупкий и фантастический аккорд… И на всем этом лежал колорит какой-то призрачности, нереальности, сонности — такое настроение, будто видишь звуковой сон…»
Вместе с переходом его музыки в «прозрачное», «бесплотное» состояние перемещается в этот «астральный мир» и мечта композитора. Сабанеев вспомнит, как на его вопрос о «Мистерии» композитор неожиданно начнет отвечать что-то непривычное:
«Сроки для Мистерии выяснятся из общих условий. Ведь Мистерия сама должна созреть… Вот сейчас война, это уже одно из предзнаменований того, что сдвиги там начались. Но кто знает, как пойдет дело дальше. Ведь материальность еще так сильна, ведь мы еще не дошли до середины, до нижней точки, до полного отпечатления духа на материи — это впереди, а Мистерия знаменует уже завершение кривой, ее поднятие… Ведь не я делаю Мистерию, я только знаю, что Мистерия должна быть, что она будет, я сообщаю о ней и содействую ей… «Предварительное действо» есть одна из форм этого содействия, так же, как и мои музыкальные сочинения, ими пробивается что-то в мире, производится какое-то ускорение процесса, все это приближает Мистерию. Уже «Прометей» или Седьмая соната приближают Мистерию, а «Предварительное действо» очень сильно ее приблизит…»