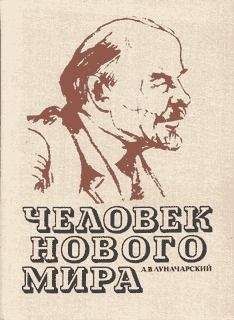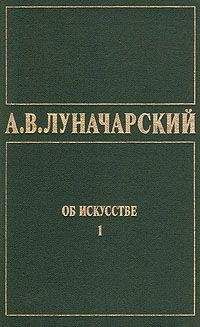Анатолий Луначарский - Воспоминания и впечатления
Разъехались мы со съезда довольно сумрачными. Для всех было ясно, что мир кажущийся. Передавали фразу, сказанную столь плохим пророком Даном, в то время являвшимся настоящим диктатором меньшевиков: «С большевиками теперь покончено, они побарахтаются еще несколько месяцев и совсем расплывутся в партии».
Каким действительно оптимистом своей линии нужно было быть, чтобы до такой степени не понимать тот заряд энергии, который был заложен в левую социал-демократию!
Мне незачем следить за дальнейшим ходом развития наших отношений с меньшевиками. Поражение открыло перед нами две линии: можно было идти, с одной стороны, по пути парламентаризма, в том убогом виде, какой отмеривался Столыпиным, по пути приспособления к мнимо конституционным порядкам «буржуазной» монархии, как окрестил новый режим Мартов, или продолжать борьбу партизанскими способами72.
Меньшевики, конечно, выбрали первый путь, большевики, конечно, второй…
Забегая вперед, скажу, что вскоре и среди самих большевиков начались разногласия по той же линии. На этот раз Ленин… был за участие в выборах в Думу и считал, что мы, готовясь к дальнейшему революционному подъему, в то же время должны вести политическую работу в Государственной думе73 и во всех общественных учреждениях (профессиональных союзах, кооперативах и т. п.), в которых рабочая жизнь могла еще биться легально. Это соединение легальности и нелегальности казалось Богданову и другим ультралевым большевикам эклектизмом и после того, как с геомощью меньшевиков, в момент, когда разрыв не был окончательным, Ленин провел выборы во вторую Думу, Вольский и другие москвичи потребовали немедленного отзыва наших депутатов. Богданов не стал на такую решительную точку зрения: он требовал, чтобы нашей фракции в Государственной думе поставлен был ультиматум о полном подчинении революционной партийной тактике, а в противовес — угроза отказать ей в политической поддержке.
Это объяснялось тем, что Богданов и его группа (в том числе Красин, Мартов, Лядов, Алексинский, Покровский) считали тогдашнюю линию думской фракции безвольной и вялой. Надо помнить, что мы официально несли тогда ответственность не только за выступление ничтожного количества большевиков (главным образом Алексинского), но и меньшевистского большинства, с которым мы составляли неразрывную парламентскую фракцию. Ленин осуждал и этот так называемый ультиматизм.
Как всегда бывает, в эпоху реакции вновь появились и философские разногласия. Нам припомнили наши философские искания и отступления от плехановской ортодоксии. Плеханов, в то время далеко ушедший направо, дальше всех меньшевиков, в отношении философских истолкований Маркса считался все еще непререкаемым святым отцом.
И в этом случае я находил много «за» и «против» в обоих направлениях. Я никогда не отличался фанатическим стремлением видеть только белое или только черное, и аргументы противника я всегда взвешивал со всей внимательностью… Мне казалось главным образом необходимым поддержать высокое настроение пролетариата, не дать угаснуть атмосфере мировой революции, которая, как мне казалось, мельчится этой мнимой практикой, — вот почему я вскоре присоединился к группе «Вперед»74, организатором которой был Богданов.
Но здесь я несколько забегаю вперед и мне нужно вернуться к эпохе выборов во вторую Государственную думу.
Кандидатов от Петербурга у партии не было никаких, ввиду всевозможных затруднений, которые ставил самый избирательный закон. Перед тем как выставлять кандидатуру Алексинского, который с этой целью переведен был корректором и, таким образом, был рабочим типографии, толковалось также о моей кандидатуре, ибо я, по-видимому, ни с какой стороны не должен был встретить предусмотренных законом препятствий.
Думаю, что именно поэтому судебные власти поторопились представить мне обвинительный акт.
Сделать это было вообще чрезвычайно легко, ибо деятельность свою я вел совершенно открыто и в отличие от других товарищей даже не под псевдонимом.
Партийная работа в то время была довольно широка. Между прочим, на Новый год (1906), как раз в канун его, я был арестован на рабочем собрании и просидел 1½ месяца в «Крестах»75. За это время я написал свою драму «Королевский брадобрей»76. Дело могло повернуться очень плохо, так как преступлений на мне было сколько угодно.
Но относительно собрания, на котором я был арестован, я сделал заявление, что присутствовал на нем с информационными целями как член редакции журнала «Образование», каким действительно состоял в то время.
Через 1½ месяца меня выпустили. Я как ни в чем не бывало продолжал свою деятельность. Главным образом, она выразилась в лекциях. Чем дальше, тем больше эти лекции приобретали характер философский. Я решился даже открыть целый курс по истории религии. Читал я свои лекции в высших учебных заведениях, главным образом в политехникуме. После моих рефератов часто шли жгучие дискуссии. Более или менее постоянными участниками их являлись: Столпнер77 и священник Агеев, раза два выступал Григорий Петров78, тогда еще священник.
За слушание лекций взималась плата в пользу Петроградского комитета нашей партии. Для комитета лекции дали около 10 тысяч рублей. Однако не эти мои, весьма преступные, с точки зрения развивавшихся в них идей, и весьма громкие лекции и не моя агитационная работа, на которой я сорвался было 31 декабря 1905 года, а моя литературная работа, и притом в совершенно случайной ее части, послужила основанием моего «дела». Оно было возбуждено специально, чтобы парализовать во мне весьма вероятного кандидата во вторую Думу.
Алексинский был известен гораздо меньше, чем я. С известным правом можно было сказать, что, выбивая меня из строя, окончательно лишали большевиков права иметь в Думе какого-либо настоящего лидера.
Обвинительный акт был построен на моем предисловии к брошюре Каутского, в котором я говорил о русском правительстве как об организации приказчиков западноевропейского капитала, обязанной выколачивать из страны колоссальный доход для западной биржи79.
Обвинительный акт был составлен таким образом, и прецеденты были так ясны, что приглашенный мною для совещания адвокат Чекеруль-Куш посоветовал мне немедленно эмигрировать. Стояло вне всякого сомнения, что я буду осужден на длительное тюремное заключение.
Между тем я не был арестован. Я совещался с наиболее близкими мне партийными товарищами, и мы постановили, что мне действительно необходимо уехать. Это было зимою 1906 года.