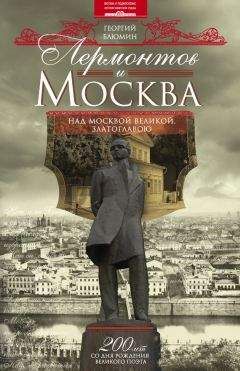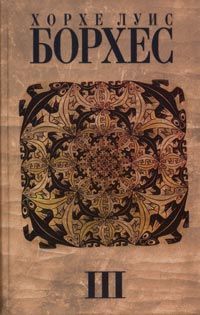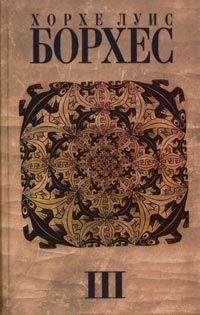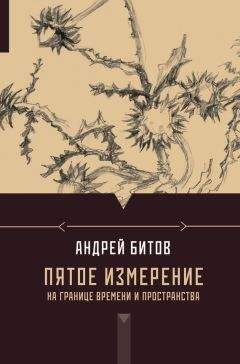Александр Волков - Опасная профессия
— А что, Дмитрий Степанович, это так и будет ваш монолог или все-таки возможен диалог?
— А что ты можешь сказать? — резко возразил он, перейдя на «ты», и снова что-то на меня посыпалось. Но все же он остановился, и я воспользовался этим:
— Вот вы упрекнули меня, что я все переврал, в частности, назвал совещание, которое вы созвали, заседанием бюро крайкома, тогда как это был актив. Вы считаете это принципиальным?
Не помню уж, как он ответил, но других-то фактов, которые я «переврал», он и вообще не привел. На этом моменте был в его монологе какой-то акцент, выходивший даже на некоторое обобщение: мол, корреспонденту искажение фактов непростительно. Это и теперь обычный прием в обращении с газетчиками: когда хотят увернуться от критики, возражают не по существу, не по основной мысли, а уцепившись за какую-нибудь детальку, которая «искажает действительность». И все очень пекутся о журналистской нравственности.
— А я, Дмитрий Степанович, считаю принципиальным другое, — возразил я, — то, что вы допустили грубое нарушение норм партийной демократии. Будь это бюро крайкома или партийный актив, ни тот, ни другой не имели права отменять решение пленума крайкома партии о сроках завершения сева, принятое несколькими днями раньше.
Эту фразу, этот контрудар я не заготавливал, просто он родился как-то спонтанно, наверное, как раз потому, что мой собеседник сделал нажим на этом моменте, а вместе с тем с формальной партийной точки зрения тут был действительно «криминал»: актив отменил решение вышестоящего органа. Сейчас все это кажется смешным: крайком партии решает, когда начинать и когда заканчивать сев! Бред собачий! Только тогда вся экономика управлялась такими жесткими партийными вожжами. Впрочем, всмотритесь в сегодняшние порядки и обнаружите еще очень многое и многое из пережитков тех времен. Но главное — я понимал, что обстоятельными аргументами, цифрами, фактами в таком разговоре оперировать бесполезно…
С минуту трубка молчала. Я ждал, уже чувствуя, что удар, похоже, пришелся под дых, но еще не зная возможной реакции. Она могла быть жесткой и злой. Но вдруг произошел какой-то поворот.
— Это они неправильно сделали, — сказал Дмитрий Степанович, — Я не имел об этом представления.
Нет, он не оправдывался, но говорил совершенно иным тоном, как бы уже размышляя вместе со мной о происшедшем, а может быть, и обвиняя тех, кто его подвел, — местное руководство, секретаря крайкома партии. Возможно, это был самый легкий способ снять проблему, свалить на других вину за то, что произошло, потому что он уже понял: корреспондент отнюдь не склонен отступать, а, напротив, готов идти до конца, настаивать, — такое ведь может быть «чирьевато последствиями». Он продолжал что-то говорить. Но мне тоже удалось вставить слово — объяснить свою позицию, обосновать причину того, почему написал записку, рассказать и о многолетних данных, которыми располагаю. Рассказал и о том, что заходил к Пысину, но не был принят. Полянский вдруг, перейдя снова на «ты», но как-то уже по-другому, это было уже доверительное такое «ты», сказал:
— Ну, ты с ними не ругайся, они, в общем-то, неплохие ребята. Сам понимаешь, что им все-таки трудно там с севом. Постарайся найти с ними контакт.
И еще хорошо помню последнюю фразу, потому что она была прямо противоположна первой.
— А ты, оказывается, в сельском хозяйстве разбираешься.
На другой день в девять утра меня пригласил Пысин. Вошел в его кабинет и сразу увидел, что он буквально взъярен. Первый секретарь был крупный мужик, лицо тоже крупное, с монголоидными чертами и оттенком кожи, с тяжелыми набухшими веками, нависающими над глазами, от чего в гневе был впечатляющ. Начал он грубо:
— Ты что там расписался! Вот мне сегодня звонил Аристов, говорит: что у тебя там за корреспондент, который пишет нам какую-то ерунду, неужели ты не можешь прижать его как следует! (Аристов был членом Президиума ЦК КПСС, секретарем ЦК-А.В.)
Я встал и пошел к двери.
— Куда ты?
Я ответил, что не намерен выслушивать какие-то нотации. Что секретарю крайкома партии, даже если он заручился поддержкой члена Президиума ЦК, не пристало разговаривать с корреспондентом «Известий» в таком тоне.
Он уже спокойнее предложил все-таки вернуться, присесть и продолжал говорить, но все о том же — что я не понимаю, во что лезу, не понимаю, как важно вовремя посеять. И все больше распалялся, распалялся, а я снова вставал и уходил. Он опять меня мягко возвращал, но, наконец, окончательно не выдержал — сорвался на крик.
— Расписался! Я вот пошлю тебя на хлебозаготовки уполномоченным, и ты узнаешь, почем фунт лиха! Завалишь все, и мы тогда вышвырнем тебя из партии…
Да, тогда и не нужно было большего наказания журналисту: исключили из партии — значит, больше не работать ему в печати, в провинции-то особенно. Надо заметить, что мы, корреспонденты центральных газет, состояли на партийном учете не в московских, а в местных организациях, то есть в этом смысле были подчинены местным райкомам, горкомам, крайкомам партии. Там, в области или крае, не только в газету — и в другое место не устроишься без милостивого разрешения обкома или крайкома КПСС. Не в провинции — в Москве и не в то время, а уже много позже Лен Карпинский, приемный сын известного революционера, друга самого Ленина, при всех его огромных связях, не сумел после исключения из КПСС получить большего, чем скромную музейную работу с более чем скромной оплатой.
Мне после выпада секретаря уже не оставалось ничего, кроме как тоже дерзить:
— Не выйдет у вас ничего, Константин Георгиевич. Прежде чем куда-то послать меня, вам придется согласовать ваше намерение с моей редакцией, а это не получится. И это, во-первых. А во-вторых, я постараюсь довести до сведения вышестоящих органов, как вы общаетесь с людьми. Теперь я представляю, что было бы, скажем, с рядовым агрономом, если бы он написал нечто подобное даже вам, а не в цека. Вы бы его просто смяли, уничтожили. А со мной не выйдет!
Господи, до чего же все было наивно! Но для секретаря — неожиданно, непривычно. Сквозь желтизну его кожи проступили красные и белые пятна, по-моему, все вместе, и он опять стал что-то кричать, а я резко остановил его и произнес уже целую тираду, одним духом, даже без запятых:
— Вы кричите на меня потому, что вам стыдно. Ведь ситуация-то ясна, она как на ладошке. Вы прекрасно понимаете, что написал я все правильно, что край понесет огромный ущерб от преждевременного сева. Вы хоть и зоотехник, все же кандидат наук, вы уже столько лет работаете в этом крае, и данные, которыми я располагаю, известны вам лучше, чем мне. Вы и то знаете, что никто никакие сроки все равно не выполнит. Но вы не решились сказать все, что думаете, Полянскому, когда он собрал вас, вы побоялись возразить! А мальчишка вот, с вашей точки зрения, корреспондент возразил, написал, и вы хотите ему отомстить не за то даже, что он вас подвел, не так уж и подвел, прямо скажем, вас там лучше понимают, чем меня, и сочувствуют вам, а не мне, но вы кричите потому, что вас как бы «уязвили», вам, да и другим, показали эту вашу слабость… Вот ещё и «корреспондента прижать» не можете…