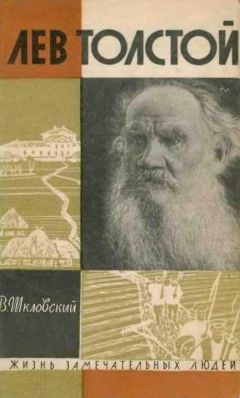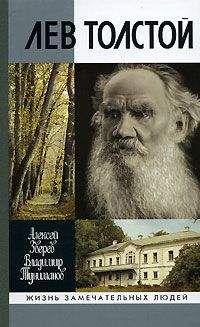Михаил Новиков - Из пережитого
Да и вообще-то выкупные платежи за землю платились охотно, в особенности во вторую их половину, с 1890-х годов. Мужики землей жили и ею дорожили и понимали без понуждения, за что они платят. Так что понуждать приходилось только пьяниц. Менее пьющие (непьющих совсем, кроме нас, трех братьев, не было) платили осенью с продажей хлеба или приплода от скота и недоимку на другой год не запускали. Даже мой отец на моей памяти сидел в холодной очень редко, и к нему других репрессивных мер не применяли.
По тогдашнему положению о выкупе крайней мерой понуждения было право общества снимать землю с неисправного плательщика и передавать другим до тех пор, пока он не уплатит. Но и эта мера была применена единственный раз к Осипу Мухину, который также из-за пьянства накопил недоимку в 80 рублей, а имел три надела. С него сняли два и отдали моему отцу, раз у него было четыре сына и все подрастали. Через пять лет он все же уплатил, и ему землю вернули.
Об этой крайней мере мужики крепко знали и не допускали до ее применения.
А потом, в числе этих 32 домохозяев совсем пьяниц было мало — пять-шесть человек, остальные жили не богато, но сносно. Имели свой хлеб, овощи, молоко от коровы (а то и от двух), имели на году убойного поросеночка; трех-четырех и больше баранов от приплода, так что лето жили с молоком и яйцами, а зиму со свининой и бараниной. Берегли «харча» и к покосу. А оброки платили частью с отхожих промыслов, уходя на зиму на фабрики, и с лишнего хлеба и скота.
А для отхожего промысла у нас были свои причины. Еще при крепостном праве в 50-х годах барин Дьяков выстроил ручно-конную суконную фабричку, на которой работали наши же крестьяне и имели от этого доход, так как, кроме отбывания этой работой прямой барщины три дня в неделю, за остальные три дня получали жалованье по 30–40 копеек в день, что при тогдашней дешевизне на все товары и продукты было совсем не мало, тем более что обходились всем своим, от хлеба, картошки и мяса до лаптей и домотканых рубах и кафтанов включительно, и деньги были нужны, главное, на оброк и на водку в разные праздники.
Фабрику эту у Дьякова держал в аренде маленький фабрикантик Никандр Сувиров. Потом они не поладили, и Сувиров тогда же перекочевал под Москву, и его трое сыновей: Ваня, Володя и Николаша (как их за глаза звали рабочие) — стали иметь свои небольшие фабрики. К ним-то наш народ и приспособился ходить на зиму на работу и после воли. А наша фабричка в Боровкове была продана и разобрана. И теперь от нее остались только канавки и яма, где лошадьми крутился сукновальный привод, а от барина, Валериана Николаевича Дьякова, остался лишь маленький памятник в церковной ограде и хорошая память у стариков. И моя бабушка Анна ничего не могла припомнить о нем дурного, кроме утверждения, что барин был «справедлив».
— Бывало, в праздник позовут девок и молодежь водить хоровод в саду против дома, а сами выйдут на крылечко и любуются. Вынесет, бывало, барыня пряников и конфет и станет нас оделять гостинцами, а мы в шутку деремся, шумим, хохочем. А то скажет: «Играйте в горелки!» И сами хохочут, как мы друг другу не поддаемся, бегаем, бегаем, визжим, в кусты прячемся. А на Троицу, бывало, господа заранее сговорятся: в чьем лесу нам гулянье устраивать, венки завивать и хороводы водить, и в этот лес молодежь сходилась, бывало, со многих деревень. Туда и господа на тройках приезжали любоваться, и с нами вместе за руки брались и хоровод водили. Большие хороводы тогда водили и песни хорошие пели! Видим, бывало, барыня с барышней едут, мы и запоем им встречную:
Из боярских из ворот выезжает тут холоп,
А навстречу холую сама барыня идет…
Бывало, к хороводам-то и старики со старухами сходились. Вся деревня сходилась на молодежь любоваться. Старики-то в хоровод выходили и платочками махали…
— Конечно, по зимам плохо было, — переходила бабушка на более грустные мысли, — когда до Рождества, а когда и до Аксиньи-полухлебки (февраль) молотить на барщину ходили. Молотилок тогда не было, цепом молотили. В работе-то ничего, цепы нагревали, а плохо у кого дети грудные были. Тебе бы воздохнуть, а тебе ребенка кормить принесли. А у кого дома не с кем было оставить, в ригу и колыбельку брали. На улице мороз, а в люльке ребенок копается. Уж барыня-то, бывало, ахает, охает, когда ребенка с голыми ручками увидит, сама на него дышать станет, отогревает; велит принести какие найдутся шерстяные вещи старые и ими ребенка окутает… Добрая душа была наша барыня!.. Конечно, и умирали грудные от простуды, а что поделаешь? Бывало, только перекрестишься и скажешь: «Слава тебе, Господи, что Господь прибрал и руки тебе развязал! Кто им рад-то, грудным!..»
Однако, пересказывая об этом, давно и для нее прошедшем времени, бабушка никогда ничего злобного не привносила в свои рассказы, никого не бранила, а всех поминала только добром и с уважением. Прямо видно было, что ничего злобного и тяжелого и не осталось у нее в памяти о прошлом. А выдумать, конечно, от себя она не могла ни того, ни другого. Да ей этого бы и не пришло в голову.
Глава 4
Фабрика
Но наконец пришло время уходить из дома мне. Мои товарищи, ушедшие на год-другой раньше меня на фабрики в Москву, приходили к Пасхе в малиновых шерстяных рубахах, в сапогах с набором и калошами, в суконных пиджаках и казакинах, а я все был кое в чем, в обносках с чужого плеча, а потому так же захотел «быть похожим на людей» и стал проситься на сторону. Мать попросила соседских ребят, и я с ними после Пасхи поехал на фабрику. О, это для меня было страшное время: уйти из родного гнезда, от родной семьи и очутиться в одиночестве с чужими людьми. У меня сердце разрывалось на части, и пока я не сел на машину, мне все не верилось, что я на это решился бесповоротно. Была Красная Горка, теплая и светлая ночь, на лугу водили хороводы и пели «Травушка муравушка, зелененький лужок», так все было красиво и привлекательно, а я, как Каин, должен был покидать и родную деревню и родную семью. Украдкой я плакал всю дорогу до станции, плакала и мать, уговаривая меня воротиться. Я бы и воротился, но было стыдно от товарищей и, давши матери слово вернуться, если мне будет плохо, простился с ней. Другой мир людей и другая обстановка поглотила меня, и я в ней затерялся со своими горькими думами. На фабрике (у Гилле в Измайлове, за Преображенской заставой) дня два еще не было набору, и мои товарищи ходили в трактир с другими товарищами, которых они знали, а я сидел в рабочей спальне один. Вся эта новая и чуждая мне обстановка тяготила меня и убивала, и я опять и опять принимался плакать украдкой. По каморкам пели песни, крупно, по-пьяному разговаривали, а я сидел как приговоренный и думал о родной деревне и семье. Разгул фабричных меня совершенно не интересовал. И я между ними чувствовал себя, как в лесу. Через два дня меня взяли ставильщиком на большую прядильную машину; работа состояла в замене пустых катушек другими, с бумагой, и я первые две недели выбивался из сил, чтобы поспеть с этой работой. Катушки ежеминутно сходили в разных местах стайки (всех их было, кажется, 900), и я опрометью носился кругом прядильной пары, вспоминая святых. Кроме этого, за смену надо было подметать два раза пол, приносить корзиной цельные катушки с ровницей и два раза, подлезая под нитки и сгибаясь в три погибели, обтирать тряпкой налипший около веретен на каретке крахмал и в то же время другою рукой обтирать пух под цилиндрами, тянущими нитку. С непривычки, я много раз ткался носом об пол или рвал спиною нитки, за что всякий раз бранил меня прядильщик.