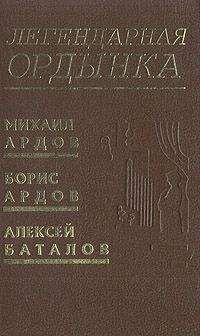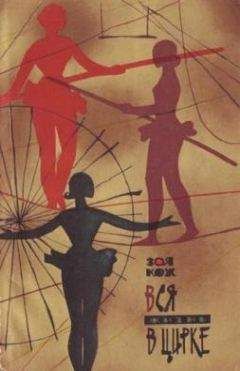Борис Ардов - Table-Talks на Ордынке
У Софронова умерла жена. По сему случаю поэт разразился длиннейшей поэмой, где воспевалась его любовь к покойной подруге. (Я сам видел эту поэму, не скажу, чтобы читал. Там была изумительная строчка:
«Как Дант назвать любимую Лаурой».
Сильнее этого в свое время написал только юморист В. Шкваркин:
«Я вас любил, как Дант свою Петрарку».)
Эту самую поэму Софронов отнес в «Октябрь» к своему другу Кочетову. Тот взялся ее напечатать.
Но пока суд да дело, журнал ежемесячный… Словом, поэма не успела выйти, как Софронов вполне утешился и женился на молодой особе. И тут же посвятил своей новой любви большой цикл лирических стихотворений. И, разумеется, принес эти стихи Кочетову. Тот сказал другу следующее:
— Толя, ты — замечательный поэт… И стихи эти твои мне очень нравятся. Но ведь мы только что опубликовали твою поэму, где ты оплакиваешь первую жену… И мы не можем тут же напечатать твои любовные стихотворения, адресованные уже второй жене. Читатели нас не поймут…
В ответ Софронов обругал Кочетова по-матерному, стихи забрал, и дружба их кончилась навеки.
С тогдашним председателем Союза писателей, Георгием Марковым у Софронова тоже произошла ссора. Марков издавал в библиотеке «Огонька» книжицу. Она шла «молнией». Набор, гранки, верстка — все в считанные дни. И всякий раз Софронов звонил Маркову по вертушке и почтительно докладывал:
— Георгий Мокеевич, высылаю вам с курьером верстку книги…
И вот, наконец, торжественный день. Софронов говорит по вертушке:
— Георгий Мокеевич, поздравляю вас с выходом книги. Сейчас вам привезут сигнальный экземпляр…
А через час Софронову по вертушке позвонил сам Марков. Что именно он говорил и в каких выражениях остается тайной… Дело было в том, что председатель Союза писателей обнаружил на последней странице свое имя в несколько искаженном виде. Там значилось:
«Георгий Моисеевич Марков».
И вся та часть миллионного тиража, которая была уже отпечатана, пошла под нож.
V
На Ордынке бытовало довольно много новелл, которые я бы условно наименовал «мха-товским фольклором». Мама, например, рассказывала, что старая гримерша в тридцатые годы вспоминала такую сценку, которой была свидетельницей в юности. Две артистки Художественного театра на фантах разыгрывали двух знаменитых русских писателей — какой кому достанется. Звали этих актрис Ольга Леонардовна Книппер и Мария Федоровна Андреева.
Что же касается Книппер-Чеховой, то актер В. В. Лужский именовал ее так:
— Беспокойная вдова покойного писателя.
По общему мнению, К. С. Станиславский превосходно играл роль Фамусова в «Горе от ума». Но в самом конце пьесы, в гневном монологе он на всяком спектакле делал одну и ту же ошибку. Вместо — «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», — он произносил:
— В деревню, в тетку, в глушь, в Саратов.
Это было, как наваждение. Перед последним актом помощник режиссера напоминал ему о возможной ошибке, и все равно Станиславский каждый раз отсылал Софью — «в тетку».
Московский режиссер И. А. Донатов всю жизнь носил большую бороду, и этот факт послужил основанием для забавного диалога между К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.
На генеральной репетиции в Художественном театре оба основателя были за своим режиссерским столиком в восьмом ряду. Кончался антракт. Публика рассаживалась по местам. Донатов, проходя, раскланялся с Немировичем. Тогда Станиславский спросил:
— Владимир Иванович, кто этот господин с бородой?
— Это режиссер Донатов, — ответил тот.
— Что за чепуха! — начал было Станиславский. — Разве бывают режиссеры с борода… Хотя… да…
В. И. Немирович-Данченко рассказывал о комике Макшееве, который когда-то служил в Малом театре. Этот артист был любимцем простой публики. Однажды на спектакле рядом с Немировичем сидел молодой купчик. По ходу пьесы Макшеев что-то сказал. Зрители засмеялись. Захохотал и сосед Немировича. Владимир Иванович, не расслышавший слов, спросил у соседа:
— Что он сказал?
Выяснилось, что и купчик не понял реплики, но он отозвался с восторгом:
— Будьте покойны, Макшеев плохо не скажет…
В тридцатые годы в Москву приехал командированный товарищ с глубокой периферии. Он справил все свои дела, купил все, что ему нужно было, и на завтра взял билет на поезд — обратно, домой. Ему оставалось только одно посетить Большой театр, чтобы в своем городе было чем похвастаться.
Командированный пошел к началу спектакля и у самого театра купил чуть не за сто рублей один билет в восьмой ряд партера. При этом он даже не подозревал, что попадает на премьеру балета Б. Асафьева «Пламя Парижа».
Провинциал вошел в театр, разделся, и, тщательно осматривая все по пути, прошел в зал на свое место. А на соседнем кресле сидел В. И. Немирович-Данченко. Но с точки зрения командированного это был просто старичок с седой бородою.
Тут оркестр заиграл увертюру. Затем раздвинулся занавес, и начался балет. Сперва танцы занимали провинциала, но вскоре ему это надоело. Тогда он обратился к соседу и спросил:
— Папаша, а неужели они все так и будут плясать? Никто нам ничего не споет, не расскажет?..
Немирович вежливо ответил:
— Это балет. Здесь только танцуют и никогда не поют и не рассказывают…
Не успел великий режиссер закончить свою фразу, как толпа санкюлотов на сцене запела известную песню французской революции — «Сайра!».
Тогда провинциал повернулся к Немировичу и спросил:
— Что, папаша, тоже первый раз в театре?
Некий драматург пожаловался Немировичу-Данченко на отсутствие хороших тем. Режиссер предложил ему такую: молодой человек, влюбленный в девушку, после отлучки возобновляет свои ухаживания, но она предпочитает ему другого, куда менее достойного.
— Что же это за сюжет? — покривился драматург. — Пошлость и шаблон!
— Вы находите? — сказал Немирович. — А Грибоедов сделал из этого недурную пьесу. Она называется «Горе от ума».
Многолетний директор школы-студии при Художественном театре В. 3. Радомысленский вспоминал такой забавный эпизод. В день переименования Леонтьевского переулка в улицу Станиславского он явился в дом к Константину Сергеевичу, дабы принести свои поздравления. Станиславский, принимая гостя, был очень смущен и сказал:
— Это очень неудобно… Нехорошо получилось…
Тогда Радомысленский разразился целой тирадой и стал говорить о мировом значении самого Станиславского и его театра…
Но режиссер перебил его: