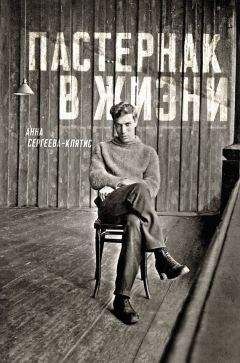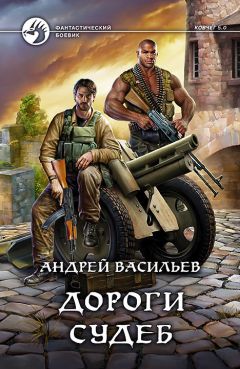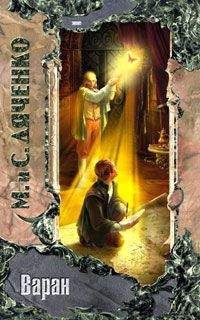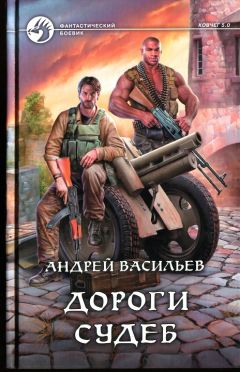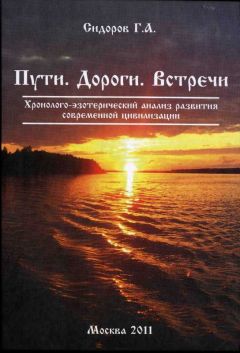Анна Сергеева-Клятис - Пастернак
И теперь на этом пути песенка моя спета <…>. Зато в твоих глазах я стал говорить на человеческом языке». Однако это обвинение сразу же нейтрализуется следующим пассажем, из которого очевидно, что отношения между отцом и сыном вовсе не укладываются в рамки подчинения или неподчинения влиянию авторитета. «Ты жаловался когда-то, — пишет Борис отцу, — что у тебя контакта с сыном нет. Я и тогда уже возмущался несправедливостью этих слов. В последнее время ты и сам, верно, видишь, как ты в этом заблуждался»{71}. Таким образом, письмо становится не обвинительным актом отцу и не декларацией собственной независимости, а просьбой близкого по духу человека быть осторожнее в тех, казалось бы, естественных требованиях, которые предъявлял Борису отец на протяжении всей их совместной предшествующей жизни.
В ожидании выхода книги своих стихов Борис вновь вспомнил о разногласиях с отцом в вопросах искусства и предупреждал его возможное неудовольствие книгой: «Она может стать новым огорчением для папы, который наверное откроет в ней высокую наличность всевозможных “кички-пички”. Заранее прошу этой темы не касаться. Я ведь ясен тебе, папа, по поведению моему и поступкам, по мыслям, по вкусам и т. д.; по письмам. А литературу мы оставим в стороне»{72}. Отказ говорить с отцом о литературе связан с опасением увеличить взаимонепонимание, вместо этого Борис пытается опереться на понятные и взаимоприемлемые основы обихода, нравственности, вкусовых предпочтений. Свои же приоритеты, к описываемому времени уже не только инстинктивно нащупанные, но осознанные и глубоко продуманные, Пастернак сдавать не собирался. По поводу «апелляций» отца к мнению друзей, не принимающих многого в поэзии Бориса, он писал: «На меня обыкновенно наводят ужасную тоску и печаль те суждения, из которых с необходимостью следует, что было бы мне лучше от “моих странностей” освободиться, ибо-де у меня есть способности и пр. и жаль, если и т. п. <…> Ведь эти “мои странности” и есть то как раз, что сказывается, вероятно, в образности моего языка, в стиле, в выборе тем и т. д. Иными словами это и есть те мои “способности”, с которыми даже другим жаль расставаться <…>»{73}. Как видим, Б. Пастернак в 1917 году уже во всем разобрался, неустойчивость позиции и сомнения в самом себе уступили место спокойной уверенности в своем даровании и полному осмыслению его природы. Спор с отцом приобрел иное, чем раньше, значение: он стал для поэта спором стилистического свойства, личное и профессиональное были для него теперь разделены. Принципиально ситуация изменилась только через десятилетие. Конечно, для Леонида Осиповича был уже очевиден статус Бориса, когда в августе 1922 года он победителем приехал в Берлин. Победителем — потому что в мае того же года вышла в свет его главная поэтическая книга «Сестра моя жизнь», уже получившая высочайшую оценку критики, как в советской России, так и в русском зарубежье[10]. Интерес русской эмиграции к новым стихам Пастернака был неподдельным, искреннее внимание к нему проявляли вчерашние мэтры, место на авансцене современной русской поэзии было уже прочно им занято. Однако последнее слово в этом вопросе было сказано человеком, чье мнение, как и мнение Л.Н. Толстого, было для Л.О. Пастернака глубоко небезразлично, — Р.М. Рильке, близкое знакомство с которым соединяло семью художника в самом начале века. Теперь, в 1926 году, он прислал Леониду Осиповичу, уже пять лет проживавшему с семьей в Германии, письмо, в котором звучала и следующая тема: «…С разных сторон меня коснулась ранняя слава Вашего сына Бориса. Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его очень хорошие стихи (в маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом, — к сожалению, я потом подарил ее русской танцовщице Миле Сируль; говорю “к сожалению”, потому что впоследствии мне не раз хотелось перечитать их)»{74}. Леонид Осипович откликнулся на этот отзыв с нескрываемой отцовской гордостью за успехи сына, теперь уже окончательно и бесповоротно удостоверенные. Он тут же написал Борису о том, как восстановил потерянную было связь с Рильке: «…я получил огромное содержательное и радостное его ответное письмо, радостное потому, что он о тебе, Боря, с восторгом пишет»{75}. Собственно это событие означало конец поколенческого спора, Леонид Осипович совершенно примирился, непреложно поверил в то, что избранный сыном путь был единственным, что «странные особенности» его языка и стиля — это и есть особая отличительная черта его дарования, которое он трудно и долго угадывал и в котором в конце концов утвердился, обретя сильный и оригинальный поэтический голос. Признание, с таким трудом полученное от отца, было, пожалуй, одним из самых важных для Бориса этапов его творческой биографии.
* * *Осенью 1917 года Б. Пастернак переехал на другую съемную квартиру — в Сивцев Вражек, где прожил почти полтора года — самое страшное время разрухи, голода и террора. 27 октября 1917 года в Москве было установлено военное положение, началась орудийная стрельба, на улицах рыли окопы и возводили баррикады. Окоп был вырыт и неподалеку от дома 12, где жил Борис. Эти события отразились и в «Докторе Живаго»: «…Это был разгар уличных боев. Пальба, также и орудийная, ни на минуту не прекращалась. <…> Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу». Во время уличных боев особенно досталось дому на Волхонке, где жила семья Пастернака. Его обстреливали с разных позиций войска Военно-революционного комитета и отряды юнкеров. Добраться до родителей, а потом вернуться в свою квартиру представляло очевидную опасность для жизни. А вернуться поскорее очень хотелось, потому что в это время Борис интенсивно писал. В квартире на Сивцевом было написано одно из лучших прозаических произведений Пастернака ранней поры — повесть «Детство Люверс»; он работал над «Масличными интермедиями» Ганса Сакса, переводы которых готовил для Театрального отдела Комиссариата просвещения, и над комедией Бена Джонсона «Алхимик». Не стоит представлять себе жизнь Пастернака в этот период как исключительно кабинетную, оторванную от страшной и тяжелой реальности. Ему приходилось не только выживать, но и активно обеспечивать это выживание. Весной 1918 года он стал сотрудничать в газете «Знамя труда» и издававшемся при ней «Временнике литературы, искусств и политики», затем в газетах «Воля труда» и «Рабочий мир», опубликовал некоторые свои произведения, но прожить на эти доходы было практически невозможно. Тогда же Борис поступил на службу в Комиссию по охране культурных ценностей при Наркомпросе, в обязанности которой входило выдавать охранные грамоты владельцам библиотек и крупным деятелям культуры.