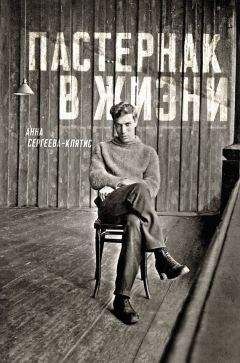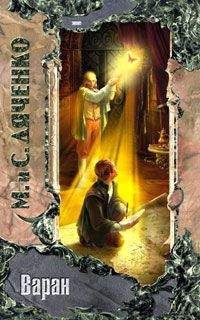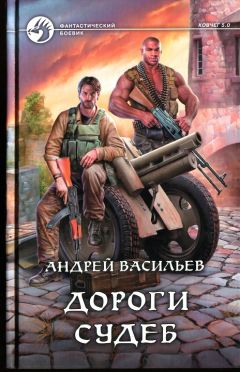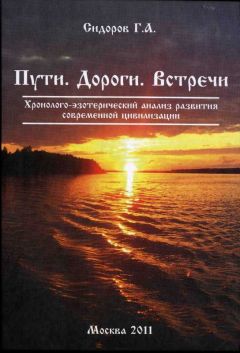Анна Сергеева-Клятис - Пастернак
В отличие от квартиры на Мясницкой, с которой у Б. Пастернака были связаны самые теплые воспоминания, квартира в новом доме на Волхонке не казалась ему особенно уютной. Возможно, причиной этого и была необходимость делить комнату с братом. К.Г. Локс вспоминал: «Комната, в которой помещался Борис вместе с братом, была безразличной, очень чистой и аккуратно убранной комнатой, с двумя столиками, двумя кроватями и какой-то стерилизованной скукой в воздухе. Внутренняя жизнь подразумевалась»{64}.
Яркий эпизод рассказан в мемуарах Н.Н. Вильям-Вильмонта, младшего друга Пастернака этого периода, который часто бывал в квартире на Волхонке: «Двери распахнулись, и под руку, как на двойном портрете, вошли родители: красивый седой старик и женщина с округлым добрым лицом, оба тщательно одетые. <…> Слегка кивнув (жена художника при этом широко улыбнулась), они прошли в переднюю, и вскоре коротко грохнула входная дверь. Меня поразило, что родители, не постучав и без крайней надобности, прошли через комнату взрослого сына»{65}.
«Я понял только одно, — резюмирует К.Г. Локс, — что Борису в родительском доме жить трудно»{66}. Эта проблема была решена много после возвращения семьи из Италии. Летом 1913 года Пастернаки снимали дачу на станции Столбовая Курской железной дороги в имении Бородина Молоди. Там впервые в жизни Борис начал заниматься ежедневным профессиональным поэтическим творчеством: «Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза. Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водою воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку. В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги. Книга называлась до глупости притязательно “Близнец в тучах”, из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств. Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие»{67}.
Вернувшись в Москву осенью, он отделился от родителей — снял для себя квартиру, точнее, крошечную комнату у въезда в Лебяжий переулок со стороны Кремля. Был ли переезд Бориса в отдельную квартиру радостным событием для семьи? Очевидно — нет. Родители не очень хорошо понимали мотивы, по которым взрослому сыну были необходимы уединение и свобода. Несмотря на собственную близость к искусству, они склонны были объяснять его причуды совсем иными, гораздо более приземленными причинами. Нет пророка в своем отечестве! Вот как вспоминает об этом брат Шура: «Я вдруг ясно ощутил, что начала стихотворной деятельности брата следует искать в том периоде его жизни, когда он окончательно от нас оторвался, начав жить на отлете. Когда мы перебрались на Волхонку, где ему была обеспечена жизнь в семье, он предпочел одиночество, снимая комнату в близлежащих переулках — то в Гагаринском, с бульвара, то в Лебяжьем, с Ленивки, то в Савеловском, что с Остоженки. Его обособленная жизнь была нам огорчительна и приписывалась нами, по своей непонятности, совсем иным потребностям — ему же такая свободная жизнь была наинадежнейшей гарантией — прячась от всех, особенно же от нас — наилучшим образом заниматься тем, что “тщательно скрывал от друзей”, то есть стихотворчеством»{68}. Обратим внимание на формулу, которую применяет младший брат поэта, — «прячась от всех, особенно же от нас». Что побуждало Пастернака прятаться в особенности тщательно от самых близких? Вероятнее всего, строгость их суда, поскольку и мать, и отец в высшей степени имели право судить, и сын это право за ними неукоснительно признавал. Надо отметить, что с течением времени отец не становился мягче — в отношении творчества Бориса он неизменно проявлял высокую требовательность. Причина ее всё та же — непостоянство Бориса, представляющееся серьезным недостатком положительному, определенному и в высшей степени трудолюбивому Леониду Осиповичу.
В 1916–1917 годах, когда готовилась к печати вторая книга стихов Пастернака «Поверх барьеров», между отцом и сыном состоялся знаменательный обмен письмами. Борис решился на объяснение с отцом, которое долгое время откладывалось. Его первый ответ был на обвинение в непостоянстве: «Музыку я оставил из убеждения в собственной бездарности. Это был голос молодой и требовательной совести, и я рад, что этого голоса послушался»{69}. Следующим пунктом идет философия, которая стала возможна только благодаря отказу от музыки: «Естественные и здоровые мотивы повели к здоровым и естественным следствиям; я не раскаиваюсь в том, что сложнейшие ходы научной философии стали мне доступны благодаря этому <…>». И, наконец, окончательное решение, принятое в пользу поэзии: «…И то, что я освоился с литературой как со вторым отечеством, не вызывает раскаянья во мне». Обратим внимание, как отчетливо Борис утверждает свою правоту. В споре с отцом он нисколько не пытается покривить душой, быть не собой, напротив, все причинно-следственные отношения прорисованы в его сознании весьма точно, и этот узор он честно воспроизводит в письме. Дальше речь заходит о тех отказах, которые ему приходилось делать под чужим влиянием, в том числе под влиянием авторитета отца, и которые привели его не туда, куда следовало. В частности, имеется в виду футуризм, который вызывал у Леонида Осиповича резкое неприятие: «И я тебе скажу, папа, живое, молодое, новое и искреннее это было начинание; страшно оригинальное всеми этими качествами <…> — и тут впервые я поддался прелести влияния и авторитета»{70}. Авторитет отца требовал умеренности в проявлениях, очевидно, не только внешних, но и поэтических. Воспитанный на классике, Леонид Осипович, сам являющийся в живописи и графике ярким новатором, авангардных тенденций в искусстве с их эпатажем и размыванием границ принять не мог. Результат, как заключает Борис, последовал плачевный. «Я не знал, — пишет он далее, — что, умеряя себя, я себя умерщвлю и дойду на этом пути до равнодушия, близкого к отчаянью.
И теперь на этом пути песенка моя спета <…>. Зато в твоих глазах я стал говорить на человеческом языке». Однако это обвинение сразу же нейтрализуется следующим пассажем, из которого очевидно, что отношения между отцом и сыном вовсе не укладываются в рамки подчинения или неподчинения влиянию авторитета. «Ты жаловался когда-то, — пишет Борис отцу, — что у тебя контакта с сыном нет. Я и тогда уже возмущался несправедливостью этих слов. В последнее время ты и сам, верно, видишь, как ты в этом заблуждался»{71}. Таким образом, письмо становится не обвинительным актом отцу и не декларацией собственной независимости, а просьбой близкого по духу человека быть осторожнее в тех, казалось бы, естественных требованиях, которые предъявлял Борису отец на протяжении всей их совместной предшествующей жизни.