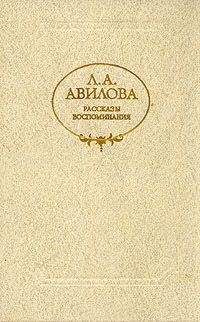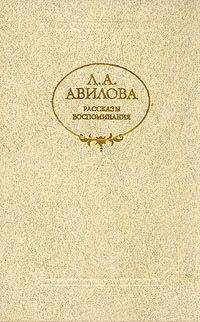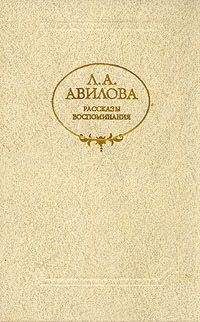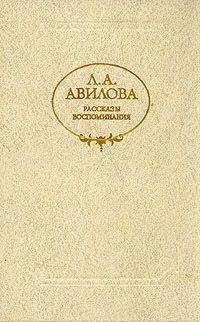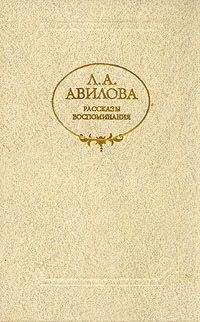Лидия Авилова - Воспоминания
На короткое время стало совсем тихо за столом, все молчали. Потом как-то сразу все заговорили, не обращая на меня никакого внимания. А я молча принялась пить чай.
И вдруг… вдруг раздался сильный звонок. Так, именно так звонил Семен. Но ведь это не мог быть он: мать требовала… даже отец что-то пробурчал… Пришлось покориться… Конечно, не он!
Маша пробежала в переднюю и, не закрыв дверь в столовую, впустила гостя. Во всю входную дверь встала высокая, широкая фигура в накинутой на плечи николаевской шинели с большим бобровым воротником… Я вскрикнула, оттолкнула стул и бросилась в переднюю. Забыв все на свете, кроме того, что — вот он, тут, пришел, не вытерпел, — я с разбегу бросилась к нему на грудь, и он обнял меня. Можно было подумать, что мы долгое, долгое время не виделись и, наконец, судьба сжалилась над нами. Что там, в столовой, думали всякие Крюгеры? Им не было объявлено, что мы — жених и невеста, и при них мы с Семеном всегда вели себя чрезвычайно сдержанно. Но мне тогда этот вопрос и в голову не пришел. Мы вошли в столовую под руку, сияющие, нам сейчас же дали два места рядом, и Семен говорил мне: «Удрал, как мальчишка… Разве я мог? Товарищ обещал постараться за меня. Сестры не сердятся, нет, сочувствуют. Ведь чуть не погиб и спасся…»
На нас старались не глядеть. Попов крутил себе крученку, мял ее и лизал, напевая себе под нос, Строителев заспорил о чем-то с Федей, Крюгер вдруг громко фыркнул и заржал, но так доброжелательно и добродушно, что хотелось крепко пожать его руку. Все были милы и стали совсем как родные.
А почему мне казалось, что лампа горит тускло? Пожалуй, даже светлее, чем всегда!
Что главное в этом воспоминании? Что глубже всего осталось в памяти и через столько, столько лет волнует, радует?
О, мне совершенно достаточно вызвать в памяти сильный звонок, тот звонок, который я тогда слышала, и вслед за ним, уже безо всякого усилия памяти, воскресает чувство, связанное с ним: чувство радости без меры, счастья до глупого восторга, до забвения всего окружающего. Счастья… Ничего, приближающегося к тому счастью, я не испытала больше никогда…
[Клекотки]
Скирды
Это было поздней осенью, и ночи были холодные, беспросветно черные. Ничего не помню, что было до тревоги. Я еще не ложилась спать, была одета, когда вокруг дома и в доме побежали, закричали, стали хлопать дверями, что-то хватать, тащить, а мамаша в шубе и платке строго крикнула в детскую, чтобы мы сидели смирно, спокойно, что никакое опасности нет и что она скоро вернется.
Как только она вышла, кто-то откинул занавес на окне, и все окно сразу стало красное. На дворе было совсем светло, но совсем не похоже на день.
— Горим! Горим! — кричал какой-то голос. — Батюшки-светы! Что в колокол-то не ударяют? Пресвятая Богородица!
И в колокол ударили и тревожно зазвонили, быстро и жутко. Моя бонна — немка заметалась по комнате как мышь в мышеловке. И вдруг точно найдя щель, выскочила в девичью. Я осталась одна, собиралась было зареветь, но заинтересовалась тем, что за окном, и стала соображать, нельзя ли и мне выскользнуть и разузнать подробно, где горит, что горит. И вышло как-то так, что я уже оказалась на крыльце, потом на дворе, а потом ухватилась за подол какой-то знакомой бабы и вместе с ней побежала на гумно.
Горели скирды, целый город скирдов. Мы бегали там днем и играли в домовладельцев: каждый из нас выбирал себе собственный дом на разных улицах, хозяева приглашали к себе гостей, но гости никак не могли найти тех, к кому ехали на голос, потому что все улицы и дома были одинаковы, и очень легко было заблудиться. Ведь целый город скирдов! И все скирды теперь горели…
Баба, за которой я увязалась, сперва встала со мной в сторонке и только смотрела и причитала, но староста дал ей по шее и приказал что-то делать. Она выругала его лешим и чертом таким пронзительным голосом, какого я от нее никак не ожидала, но не стала дожидаться второго тумака, а ушла в цепь передавать ведра с водой. Меня староста не турнул на работу, заметив, что я слишком мала, но повернул, толкнул и погрозил чем-то, если я ему еще попадусь под ноги. Не разглядел, не узнал.
Я осталась смотреть. Но я ничего не помню, что я видела. И только одна картина врезалась мне в память на всю жизнь: это были скирды, которые уже сгорели, но еще не потухли. Они стояли прямые, аккуратные, будто совсем ничем не тронутые, но казались сооруженными из искр, все насквозь полные блестящими переливающимися искрами, перебегающими, волнующимися, кое-где ярко вспыхивающими или только мерцающими. И стояли такие четко очерченные громады и точно дышали, и было совершенно непонятно, почему они стоят, чем держатся? Казалось, стоило дунуть, чтобы они обвалились, так они были легки, прозрачны, призрачны.
Я опомнилась, когда кругом стало быстро темнеть. А может быть, я сильно прозябла? Во всяком случае я поняла, что мне никак не следовало убегать из дому и что мне непременно надо вернуться домой. А как вернуться? Надо немного пройти садом, потом весь двор, а стало так темно, что я ни за что не решалась идти одна. Пока я глядела и не могла наглядеться на набитые искрами скирды, бабы с ведрами куда-то разбрелись, народу стало меньше, и почему-то я никого не могла узнать. Я не помню, как я вышла из всех этих затруднений и как мне удалось вернуться домой. Очень отчетливо мне вспоминаются только скирды и еще как староста повернул меня и толкнул. А лица старосты я не помню и, как его звали, тоже не помню. Я охотно забыла бы и его пинок, но он прицепился к скирдам и живет так долго за их счет. Лет семьдесят живет. А выкинуть из памяти ничего нельзя. Заведется дрянь, и — хочешь не хочешь — возись с нею всю жизнь. Ничего нельзя забыть нарочно, и это очень грустно. Не знаю, чего больше: того ли, что хочется помнить, или того, что хочется забыть. А впрочем, вру! Знаю!
Крапива
Вот мне 19 лет, а Эле — 10. Я в прошлом году кончила гимназию, я свободна! И вот наступает весна, и мне очень хочется уехать в деревню и видеть все сначала: как зазеленеет трава, как распускаются листья. Слышать, как орут днем грачи в саду и как ночью там щелкают соловьи. Хочется простора, воздуха…
Мамаше нельзя ехать в Клекотки: мальчики еще должны держать переходные экзамены, а ей — в день любого экзамена — ездить в монастырь к обедне, с трепетом ждать возвращения экзаменующегося, надеяться, волноваться… Но мамаша всегда делает то, что я хочу, и она соглашается отпустить меня с Элей. Дом еще не приготовили к нашему общему приезду, да он и слишком велик, и вдвоем с Элей нам было бы там неуютно. Мы устраиваемся во флигеле у управляющего Захара Алексеевича и его жены Прасковьи Антоновны. Комнаты маленькие, низенькие, но есть одна свободная для нас, и это все, что нам нужно. Маленькое окно выходит на проезжую дорогу, но под окном куст сирени и шиповника и много молодой, пахучей и очень жгучей крапивы. Я вылезла в окно и сильно окрапивила ноги. А вылезла просто для того, чтобы лучше почувствовать, что я не в городе и что никто не смеет мне слова сказать. Эле лезть не позволила.