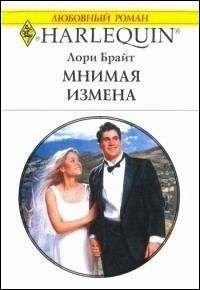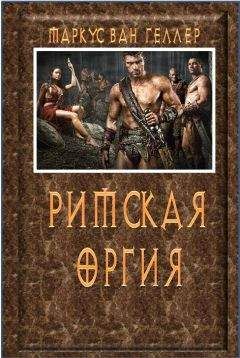Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
Мне тоже было очень неловко, я не хотел их обижать, но очень боялся попасть в какую-то западню, так как поведение их казалось мне совершенно не соответствующим предстоящему мне допросу, и потому я был в высшей степени настороже. Я думаю, что в этот момент я, стоящий молча у стены перед компанией жандармов, пьющих чай, был похож на пойманного волчонка, только что приведенного и выпущенного в большой комнате среди толпы взрослых людей.
Вот он уходит в отдаленный угол, он садится там, как собака, на задние лапки спиной к стене и молча смотрит, сверкая глазами, на сидящую и разговаривающую посреди комнаты толпу охотников.
Его парализует непривычная обстановка замкнутого человеческого жилища, все эти столы, мебель, стены. Все кажется ему подозрительным, нигде нет близких для его сердца деревьев и кустов, за которые он мог бы броситься. Он покорился судьбе, но он горд и потому молча смотрит, не обнаруживая ничем своего внутреннего волнения, на каждое движение своих врагов, готовый и когтями, и зубами защищать свою жизнь от всякого подходящего к нему со злым намерением. А с каким иным намерением могли бы подойти они, охотники, к нему, пойманному ими, связанному и унесенному из его родных зарослей?
Так стоял и я в этой сводчатой мрачной большой комнате, смотря то на ее стены, то на стол и компанию своих врагов посредине ее. Им явно было конфузно продолжать свой чай, но еще более конфузно было прекратить его. Положение получилось безвыходное и для них, и для меня. Некоторые из молодых покраснели.
Подполковник отхлебнул своего чаю и как старший среди всех обратился, желая начать какой-нибудь разговор, к сидящему напротив него:
— А что, вчера вы были в цирке?
— Был, — ответил тот.
— Видели что-нибудь интересное?
— Да, приехавшие из Америки атлеты делали там удивительные вещи.
Он собрался было рассказывать, но тотчас раздумал, очевидно, почувствовав, что в его рассказе не выйдет увлечения, соответствующего данному случаю, и эффект потеряется.
Наступило молчание. Подполковник допил свой стакан и, встав с места, сказал мне:
— Ну пойдемте!
Мы вышли в небольшую комнату с письменным столом, на котором лежали кучи бумаг. Он сел по одну его сторону, а меня пригласил на стул напротив.
Он взял сбоку стола синюю папку с ярлыком, на котором каллиграфическим крупным почерком было написано: «Дело Морозова».
В папке было уже несколько листов исписанной бумаги. Он порылся в ней и подал мне один небольшой, почтовый.
— Скажите, вы получили в Женеве это письмо?
Я взглянул и с изумлением узнал почерк своего отца.
— Можно прочесть? Иначе я не могу сказать, получил ли.
— Да, конечно.
Я начал читать. Это был ответ отца на мое письмо, посланное ему тотчас после отъезда за границу, в котором я просил его сообщить, какие будут далее наши отношения и как здоровье матери, сестер и всех домашних.
В нем было написано, что моя мать и сестры здоровы и что если я желаю восстановить с отцом прежние отношения, то должен возвратиться в Россию, явиться в Третье отделение, принести чистосердечное покаяние во всем, что сделал, увлеченный по неопытности злонамеренными людьми в их противозаконную деятельность.
«Я обещаю, что твое чистосердечное раскаяние и неопытность будут приняты во внимание и ты получишь возможность снова возвратиться в семью», — оканчивал отец.
Таково было содержание письма, которое я бегло просмотрел.
— Получили ли вы такое? — спросил меня снова подполковник.
— Нет! — ответил я.
— А мы думали, что вы возвратились потому, что послушались совета вашего отца.
— Но как же я мог получить его письмо, когда оно попало вместо меня к вам?
— Это копия. Ваш отец был у шефа жандармов и спрашивал совета, как ему поступить; он ручался, что вы у него не так воспитаны, чтобы захотели серьезно заниматься противоправительственной деятельностью, и просил отдать вас в случае возвращения ему на поруки. Шеф жандармов обещал ему взглянуть сквозь пальцы на ваше дело из уважения к общественному положению вашего отца и отдать ему вас, прекратив дело, если вы, конечно, принесете чистосердечное раскаяние. Советую вам сделать это, и через две недели или даже менее вы будете свободны, а иначе вам предстоит лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы.
«Так вот, — пришло мне в голову, — причина, по которой они так любезно пригласили меня пить чай к себе».
Я был глубоко возмущен против отца.
«Значит, — подумал я, — у нас с ним действительно нет никакого понимания друг друга, никаких точек соприкосновения, на которых мы могли бы сойтись! Получив мое письмо, он сейчас же понес его к шефу жандармов и советовался с ним, как со мной поступить! Но ведь это же предательство меня!»
Как и всякий сильно взволнованный человек, я не был способен стать на точку зрения русского обывателя, сформировавшегося в сороковые годы XIX века в крепостнической России, который не видит никакой надежды стать гражданином свободной страны и потому заботится только о своем семейном благе. Возмущенный до глубины души, я не был способен принять во внимание и того, что в уме отца невольно оттиснулся тот чисто клеветнический образ русского революционного деятеля, каким изображала его тогдашняя реакционная печать, между тем как прогрессивная пресса выходила в публику с наглухо заткнутым ртом в этом отношении.
Если б я принял все это во внимание, мягче отнесся бы к отцу. Но мне было тогда только двадцать лет, и как мог я понимать подавленную психологию более зрелого возраста русских обывателей в семидесятые годы? Прочитав это письмо, я почувствовал, как оборвалась в моей груди последняя нить, связывавшая меня с отцом, и я мысленно сказал себе: «Если бы мне пришлось умирать с голоду в нескольких шагах от крыльца моего бывшего дома, то я не лег бы на его ступени и даже не крикнул бы: "Помогите!" — из опасения, что меня услышат и принесут к отцу ранее смерти!»
Я на него нисколько не сердился, я его не возненавидел. О нет! Ничего подобного не было в моей душе, но я почувствовал, что отец стал мне в этот миг чужой человек, с которым у меня нет и не будет ничего общего.
Все это промелькнуло у меня в уме в несколько минут, пока подполковник объяснял мне положение дела и советовал во всем послушаться отца для моей же собственной выгоды.
— Выдайте мне всех ваших сообщников, — сказал он, — и я даю вам честное слово, что вас выпустят через несколько дней без всяких ограничений вашей свободы и даже никто никогда не узнает того, что вы мне здесь сказали наедине!