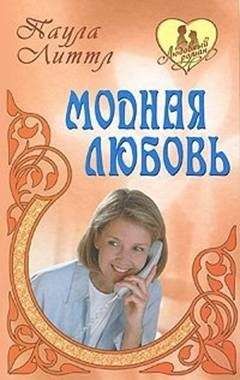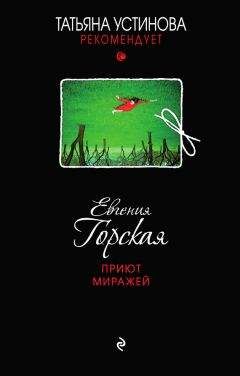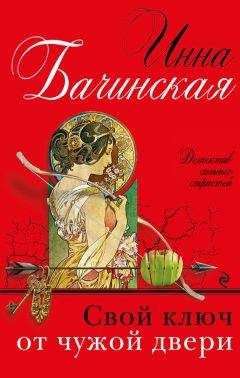Евгения Фёдорова - И время ответит…
— Видите, как трудно совершить подвиг? — сказала я. Дети молчали.
На другой день, проходя лагерным парком, я заметила, что все пионервожатые, завидев меня, быстренько сворачивают в боковые аллейки. Не приходила к нам в гости и влюбленная в Юрку пионервожатая Ниночка. Это было странно.
Так прошел день, другой. На третий Ниночка прибежала взволнованная, красная, со слезами на глазах. Запинаясь, она спросила:
— Вы до сих пор ничего не знаете?
Оказалось, что уже три дня, как издан приказ о моем немедленном изгнании из Артэка, только никто не решался сказать мне о нем. Не сказали и на следующий день.
Наконец, я сама отправилась в контору и напрямик спросила у директора — правда ли, что есть приказ?
Приказ был. Размашистым и твердым почерком в толстой книге приказов было написано, что в связи с антисоветским выступлением на пионерском костре, писательнице Фёдоровой предлагается немедленно покинуть Артэк.
— Но, позвольте, — возмутилась я, — «Кенеш» вовсе не антисоветский рассказ! Я только показала настоящую глубину и сложность детского подвига, совершенного во имя утверждения социальной системы.
Директор молчал, как-то неопределенно поводя плечом. Наконец, он сказал:
— Ведь вам известно, что политическое руководство лагерем возложено на пионервожатых. Их коллектив возглавляет Саша Буланов. Я в это не вмешиваюсь.
Тут внезапно появился и сам Саша Буланов.
Я стала требовать, чтобы раньше, чем я уеду, было назначено собрание пионервожатых, где я прочту свой рассказ и разъясню, как я его понимаю, если они не поймут. Пусть обсудят.
После долгих споров и увещеваний это собрание было назначено.
Вожатые молча садились за стол, не глядя на меня, листали журналы или что-то записывали. Наверное, всем было не по себе и хотелось спать, но, привычные к дисциплине, они не роптали и терпеливо ждали Сашу Буланова.
Наконец, явился и он. Подчеркнуто сухим и деловитым тоном объявил, что на повестке дня стоит всего лишь один вопрос: обсуждение антисоветского выступления писательницы Фёдоровой.
— Прежде, чем называть мой рассказ «антисоветским выступлением», я хотела бы, чтобы товарищи познакомились с его содержанием, — так я начала защиту «Кенеша».
На выступление мне было дано 15 минут. Все же я решила читать весь рассказ, считая, что невозможно говорить и судить о том, чего никто не читал.
Как можно скорей (чуть не скороговоркой) я прочла рассказ. Но как только начала говорить о его смысле, Саша меня прервал — мое время истекло и наступило время для «прений».
Однако никаких прений не было. Каждый выступавший слово в слово повторял то, что сказал предыдущий:
— Классовый враг, антисоветская пропаганда, вредительская деятельность, под маской писательницы пролезшая…
О рассказе словно забыли, будто и не было его вовсе. Предметом обсуждения был не рассказ, а я — моя антисоветская психология и вредительская деятельность.
Я ушам своим не верила. Слова о моей контрреволюционной деятельности повторялись с большим азартом и ненавистью, и я с ужасом видела, что все они, эта молодежь, сама еще едва вышедшая из детского возраста, действительно искренне верит, что перед ней страшный классовый враг, которого вовремя успели разоблачить.
Достаточно было того, что им на него указало «руководство» — уж оно-то не ошибается!
Они забыли про сон, про усталость, оживились, глаза их заблестели. Хотя никто не мог сказать ничего другого, кроме того, что им сообщил Саша Буланов, они щеголяли друг перед другом гневом и запальчивостью.
Я поняла, что говорить что бы то ни было — бесполезно. Слова, как горох, отскочат от железного занавеса, отгородившего не только другие страны мира, но и сердца и разум этих людей от нормальных человеческих мыслей и представлений.
Я забрала свой «Кенеш» и побрела к Аю-Дагу. Луна уже поднялась высоко над морем, и ливанские кедры в Артэкском парке отбрасывали четкие сине-черные тени.
Мы уехали на другой день.
Я тогда была членом Групкома писателей и туда принесла свой злосчастный рассказ, просила прочитать и дать на него рецензию: Вдруг у меня и вправду «мозги набекрень», и рассказ можно толковать, как «антисоветский»?
Рассказ попал к писателю Малышкину, одному из первых советских писателей-коммунистов. Его повесть «Люди из захолустья» была довольно широко известна в двадцатых годах.
Через некоторое время я получила рецензию. К моей великой радости, она была положительной.
«Классовая борьба — не конфетка, Фёдорова совершенно права, — писал Малышкин, — нечего сюсюкать с детьми и „играть“ в классовую борьбу. Что тяжело — то тяжело, надо уметь смотреть правде в глаза»…
Понятно, что я не могла всего этого рассказать моей следовательнице — никакой бы ночи не хватило!
Но следовательница меня перебила почти с первых же слов:
— Но ведь ваш рассказ напечатан? У нас, как будто, существует советская цензура. Если бы ваш рассказ был действительно антисоветским, в чем, как вы утверждаете, вас пытались обвинить, то уж вряд ли цензура его пропустила бы. При чем тут ваш «Кенеш» и Артэк?
Действительно, при чем? «Кенеш» никак не фигурировал в моем деле, хотя теперь я знаю наверняка, что именно он был подлинной причиной моего ареста. Именно тогда я «попала под рефлектор», — как выражался Юра Ефимов, — и на меня «завели дело». — «На нас на всех заведены дела», — неопределенно предостерег он. Напрасное предупреждение, уму-разуму меня не научившее.
Так вы не знаете почему вы арестованы?
— Так как же, Фёдорова? Так-таки и не знаете, за что вас арестовали?
Я пыталась объяснить, что ничего не могу предположить, что я всегда хорошо работала, получала премии и похвальные грамоты. Тут она изрекла сентенцию о том, что «у нас все вредители и враги народа прекрасно работают».
Как ни дико это кажется теперь, я чувствовала себя виноватой в том, что не знаю, не понимаю, за что я арестована, в чем моя вина. Как будто не следователь должен доказать мою вину, но я сама должна была доказать свою невиновность. А как я могла доказывать, не зная, в чем меня обвиняют?
Получался какой-то заколдованный круг, и я в растерянности металась в нем.
Наконец, видя, что сама я ничего путного в обвинение себе придумать не могу, Мария Аркадьевна — так звали мою следовательницу, — решила подбросить мне вопрос:
— Фёдорова, с кем вы были близки из «бывших»? Ну, из бывшей аристократии?