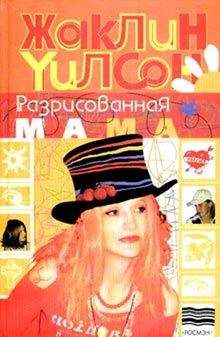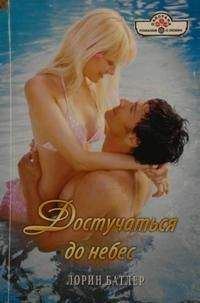Валерий Поволяев - Адмирал Колчак
Консервы – говядину, свинину, кашу, масло, а также солонину – сложили в глубокой каменной нише, сверху завалили тяжелыми каменными булыжинами, которые медведь вряд ли возьмет – даже во всем сомневающийся Бегичев и тот признал, что с тяжелыми камнями этими медведь в одиночку не справится, а позвать на подмогу себе подобного, такого же задастого и сильного, он вряд ли сообразит (хотя кто знает), банки со сладкой сгущенкой оставили на плоской каменной плите, как Колчак и обещал медведю-сладкоежке. На видном месте, чтобы медведь не совал свой длинный свиной хрюк в разные щели, не губил последний провиант.
Бегичев сбегал на вельбот, к своему имуществу, достал из бумажного ящика банку белой масляной краски, кисточку, хотел было нарисовать на одном из камней опознавательный квадрат, но Колчак остановил его:
– Другая краска есть?
– В смысле? – Бегичев наморщил лоб.
– Ну, другого цвета?
Морщин на лбу боцмана стало еще больше, он глянул в сторону, помял двумя пальцами нижнюю губу, соображал, зачем же нужна другая краска.
– Кажись, клал одну банку, ваше благородие. Красную, либо синюю, – ответил он сдержанно, хотя точно знал, что клал банку красного сурика – для того, чтобы подправлять, защищать от ржавчины покалеченные железные части на корпусе вельбота.
– Красная краска – это то, что нужно, – сказал Колчак, – А еще лучше – оранжевая. Метка должна быть видна издали, с моря. Белая сольется со снегом, ее в двух метрах не разглядишь. И если не будет карты под рукой, запросто промахнешь мимо. А это уже вопрос жизни и смерти, Никифор Алексеевич. Особенно для заблудившегося голодного человека.
– Верно бабушка мне говорила: век живи – век учись, – удрученно пробормотал Бегичев. Колчак был прав – прав в деле, где боцман съел собаку, возразить лейтенанту было нечем, и Бегичев вновь поспешно скатился вниз, к вельботу.
Банка сурика находилась на месте, он проворно подхватил ее и, тяжело дыша, сплевывая под ноги тягучую слюну, поднялся наверх, показал лейтенанту:
– Вот, ваше благородие Александр Васильевич.
Колчак мельком глянул на банку, махнул рукой:
– Годится!
– Чего нарисовать лучше на камне – квадрат или круг? – спросил Бегичев.
– Рисуй круг. Пусть среди квадратных камней появится идеальная геометрическая фигура.
– Чего-то я сомневаюсь, чтобы круг был идеальной фигурой, – сварливо пробормотал Бегичев. – А квадрат? Квадрат, он ведь тоже идеальный.
– Идеальный-то идеальный, но только глазом все время за углы приходится цепляться. А то и одежкой.
– Не-е, квадрат тоже ничего фигурка, ваше благородие Александр Васильевич, – продолжал кропотать [32]боцман, вскрывая банку и окуная в нее толстую кисть с торчащими во все стороны остьями щетины. – Мужская фигура.
– Ага. Цирковой борец. Давным-давно, Никифор Алексеевич, жил философ Пиррон. [33]Его учение было построено на сомнении. Он сомневался во всем. В том, что вода – это вода, а небо – это небо, сомневался в научных теориях и системах доказательств. Когда он умер, то ученики поставили ему на могиле памятник и на памятнике написали, знаете что?
– Никак нет.
– «Здесь лежит Пиррон, ему кажется, что он еще не умер». Так и вы, Никифор Алексеевич, что-то начали во всем сомневаться. Еще древние, еще великий математик Пифагор доказал, что круг – идеальная геометрическая фигура... А вы говорите – квадрат. В таком разе, почему не эллипс, не треугольник, не восьмигранник?
Вместо ответа Бегичев покрякал удрученно – лейтенант задавил его – и кистью начертил на камне широкий красный круг. Колчак отступил на несколько шагов.
– Во, это другое дело!
– Внутри круга краской замазывать?
– Обязательно! – Колчак подхватил одну из банок – ясак, оставленный медведю, подкинул ее. Банка была тяжелая, холодная, увертливая, она грузно шлепнулась в руку, Колчак едва удержал ее – банка отбила пальцы – и, спустившись немного по ложку вниз, кинул медведю:
– Ешь!
Медведь дернулся было на камне, туша его вареным салом колыхнулась, сквозь мех проглянула, высветившись восково, старая желтая кожа, маленькими сплюснутыми глазками медведь проследил за полетом банки – Колчак кинул ее с силой, далеко, и когда она подкатилась к его ногам, вновь дернулся, вытянул, как гимнаст, заднюю лапу и ловко подгреб ее к себе...
В следующую минуту он уже довольно урчал, слизывая с лап сладкую гущу, чмокал губами, щелкал языком, бормотал что-то про себя.
– Этого медведя можно сделать ручным, – сказал Колчак.
– А зачем он нам?
– Вот именно – зачем? Ручной медведь – большая обуза.
– Куда будем дальше держать курс, ваше благородие Александр Васильевич? – Бегичев, справившись со своей работой, теперь, картинно откинувшись назад, будто живописец, любовался ярким алым пятном, украсившим камень.
– На север, – сказал Колчак. – К Земле Беннета.
На север пошли ходко – за «казенный счет», как языкасто подметил Бегичев: с юга подул ветер, Железников поднял парус, и вельбот будто поплыл сам по себе, на хорошем машинном ходу, наваливаясь тяжелым телом на мелкие льдины, со свинцовым шорохом разгребая шугу, лавируя между крупными льдинами, вспугивая редких тюленей и моржей. Тюленей можно было не бояться – это тварь некрупная, ласковая, не вреднее зайца характером, так и хочется при виде иной симпатичной морды с сахарными усами потянуться за морковкой и сунуть ее в улыбающуюся пасть, а вот моржи, особенно самцы, охраняющие потомство, были свирепы. Пара этих сильных громоздких зверей, разозлившись, могла запросто превратить вельбот в щепки, поэтому ухо надо было держать востро. И глаза прикрывать от ветра, чтобы не слезились. Колчак сам сидел на руле, изредка уступая место Железникову.
Команда отдыхала. Отдыхал, распустив безбородое, безусое, гладкое лицо, работящий якут Ефим, отдыхали поморы.
На открытых местах, там, где не было ни шуги, ни льда, вода гулко шлепала в днище вельбота, шипела, взрывалась белыми пузырчатыми султанами; когда в нее попадал луч солнца, становилась видна глубина – бутылочно-бледная, страшноватая, порою в глубине этой возникала рябь – шел косяк, и, видя рыбу, Бегичев радовался, как ребенок:
– Есть жизнь в студеном море!
Двенадцать дней до этого благословенного ветра им пришлось идти на веслах, выкладываясь так, что воздух перед глазами становился кровянисто-красным, а на черенках оставались лохмотья кожи; там, где льдины зажимали вельбот, не давали прохода, приходилось впрягаться в постромки, выволакивать бот на лед и тащить его на себе, задыхаясь, прислушиваясь к тоскливому звону жидкого обескислородненного пространства, давя в себе усталость, нытье разбитых, скрученных холодом мышц, давя печаль, которая на Севере мертво прилипает к человеку и ни вытряхнуть ее, ни выбить, ни выжечь из себя – она давит, давит, давит.