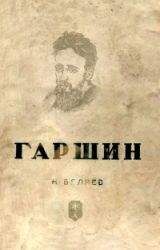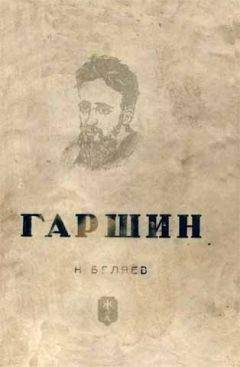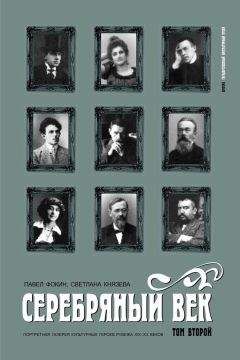Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
Вдруг к ней подходит человек в несуразной чесучовой куртке и в черном котелке и говорит:
– Это ты, милочка, что делаешь? – Щукин обращался ко всем на „ты“. Карсавина посмотрела на него с удивлением.
– Ничего особенного не делаю. Жду репетиции, – отвечала она, продолжая чертить на песке.
– Репетиция, милочка, репетицией, а порядок в саду порядком. Я, милочка, не люблю, чтобы в саду нарушали порядок.
– А мне, в сущности, наплевать, что вы любите или не любите. Я никакого порядка не нарушаю.
– Милочка, я прошу вас уйти из сада.
– Я с удовольствием ушла бы, да у меня тут репетиция… И вообще оставьте меня в покое, у меня нет никакого желания разговаривать с вами.
Карсавина не знала, кто ее собеседник.
– В таком случае, милочка, я попрошу вас вывести.
Эти слова, видимо, взбесили ее.
– Попробуйте! – воскликнула она, протянула руку назад к клумбе и сорвала цветок.
Этот сорванный цветок переполнил чашу терпения Щукина. Совершенно рассвирепев, он заорал на весь сад:
– Управляющего!..
Когда управляющий явился, он приказал ему сию же минуту вывести „эту женщину“ из сада и больше никогда не впускать. Когда ему указали, что это балерина Карсавина, приглашенная на два концерта, и что, если ее вывести, ей все же придется заплатить за концерты, он воскликнул:
– Черт с ней, заплатите, но чтобы она больше никогда не появлялась в моем саду, раз она не умеет себя вести. Я не хочу видеть ее на сцене. Черт с ней и с ее искусством!
Карсавиной заплатили, а концерты отменили…
…До него никто оперетт за границей не покупал. При отсутствии литературно-музыкальной конвенции существовал такой порядок вещей: ехал какой-нибудь предприимчивый человек за границу, в Вену или в Берлин, слушал там какую-нибудь оперетту, покупал ее клавир и пьесу на немецком языке, по приезде в Россию переводил и отдавал переведенную оперетту антрепренеру, после чего получал за свой перевод поспектакльно как автор оперетты. Оркестровка обычно делалась по клавиру.
Привыкнув к этому обыкновению, я спросил у Щукина, для чего, собственно говоря, тратить деньги на приобретение материала у действительных авторов, когда можно получить все новейшие оперетты у присяжных переводчиков на месте, в России. На это он заявил мне:
– Пусть так делают все, а я не желаю. Я хочу, чтобы о моем деле, о московском „Эрмитаже“, за границей знали как о солидном деле. Нам воровать нечего, мы и купить можем.
Выехали мы с ним в Вену. По телеграфу он заказал нам комнаты в „Гранд-отеле“. Прибыв в „Гранд-отель“, мы спросили портье, получена ли наша телеграмма. Тот ответил, что комнаты нам оставлены. Я поднимаюсь в отведенное для меня помещение и прихожу в ужас: для меня оставлено целое отделение в четыре комнаты. Иду искать Щукина, которому было оставлено другое помещение, и застаю его в маленьком номере, состоящем из одной комнаты. В полной уверенности, что это просто недоразумение, ошибка гостиницы, я говорю ему:
– Яков Васильевич, вы, очевидно, поместились не в своей комнате. Мне нужно быть здесь, а вам в отведенном мне номере.
– Нет, нет! Ты, милочка, главный режиссер первого в России опереточного дела. Вот я и приказал, чтобы тебе, значит, оставили помещение как главному режиссеру московского театра „Эрмитаж“. Кроме того, я распорядился, чтобы у тебя и цветы были. Сейчас тебе поставят в номер цветы.
– Да зачем мне все это?
– А затем, чтобы все переговоры, которые нам придется с кем-нибудь вести, ты вел у себя в номере. И если надо, так ты даже лучше приглашай людей к завтраку, и чтобы завтрак сервировали у тебя в номере. Так ты будешь достойным представителем Москвы.
После этого разговора мы опустились со Щукиным в ресторан „Гранд-отеля“ позавтракать. И тут я был, действительно, очень смущен: Щукин пришел в ресторан в черной тужурке со стоячим воротником, расстегнутым у горла. Под ней был виден крахмальный воротничок, черный галстук, а в галстуке – булавка с бриллиантом совершенно невероятной величины. Если прибавить к этому, что у него и на мизинце красовался огромный бриллиант, то станет понятно, что вид этого человека производил непристойное впечатление.
Сказать ему о том, что появляться в ресторане в таком виде не совсем удобно, значило задать ему загадку: он был не способен понять все неприличие такого костюма. Между тем я ощутил это неудобство, так как мы оказались в громадном зале „Гранд-отеля“ предметом самого пристального внимания. Щукин этого внимания, быть может, вовсе не замечал, но я рядом с этим бриллиантовым плантатором имел чрезвычайно смущенный вид.
Между тем мы начали наши деловые переговоры. Когда я сообщил композитору Легару о нашем желании приобрести кое-что из его оперетт, он просто разинул рот.
– Зачем вам это нужно, когда русские и так играют мои произведения и ничего мне за это не платят? Зачем вам это делать?
На это я заявил ему, что московский театр „Эрмитаж“ не хочет пользоваться трудом иностранных авторов бесплатно, а хочет установить с ними добрые дружеские и деловые отношения.
Легар был одновременно и ошеломлен, и растроган моим ответом. Добавлю к этому, что я принимал его в своем номере, до безобразия обстановленном цветами, и угощал завтраком, составленным по московским масштабам. К концу завтрака Легар галантно попросил у нас разрешения не продать, а подарить нам первую же оперетту, которую он напишет. Отказываться от подарка было неудобно, но мы решили компенсировать композитора иначе. Мы просили его приехать в Москву продирижировать премьерой этой новой оперетты, за что обещали уплатить ему такую сумму, какую он сам назовет. Расстались мы на том, что он просил нас сообщить ему о времени постановки его оперетты заблаговременно, и он, если ему позволят дела, с удовольствием приедет в Москву продирижировать своей опереттой.
После Легара, который, должно быть, широко разгласил свои переговоры с „москвичами“, нам было уже не трудно установить такие же отношения с Лео Фаллем и другими венскими композиторами. Все они уже знали о приехавших „чудаках“, никакого удивления при встречах с нами не выказывали и назначали за свои оперетты совершенно ничтожные гонорары, как бы желая подчеркнуть, что считают эти деньги найденными. В результате мы приобрели широкую „популярность“ в венских опереточных кругах в течение одной недели.
Из Вены мы отправились со Щукиным в Будапешт, где приобрели оперетту „Ярмарка невест“, идущую и до сих пор» (Н. Монахов. Повесть о жизни).
Э
ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович
Филолог, литературный критик, литературовед, поэт. Критические статьи и исследования «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (Пг., 1919), «Мелодика русского лирического стиха» (Пг., 1920), «Анна Ахматова. Опыт анализа» (Пг., 1922) и др.