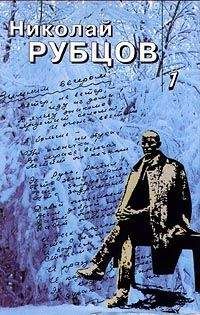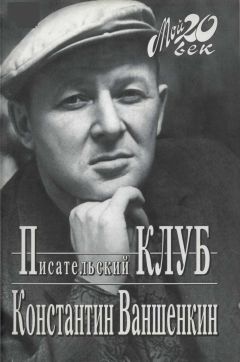Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Короче, он отдал свой текст перевести на португальский, потом ему переписали перевод русскими буквами, и он выучил его. Да, наизусть, помня, конечно, о чем там идет речь, но все равно это было для него абракадаброй. Все театральные артисты знают назубок множество ролей, но ведь на своем же языке.
В самолете коллеги дремали, спали, расслабленно болтали, а он без конца повторял про себя совершенно чужие, но уже и чем‑то странно близкие слова.
Первое представление в огромном концертном зале. Аншлаг! Он выходит к рампе и, мягко улыбаясь, начинает говорить.
Зал ахает. Через минуту зал уже покорен — замирает, аплодирует, хохочет. Рассказанные истории понятны всем. Здесь ведь тоже все так. Ну не все, но многое. И любовь, и другое. И качество юмора, конечно.
Концерт идет под аплодисменты, всех принимают замечательно, его — лучше всех.
В антракте он прячется, запирается в артистической уборной.
Но после концерта за кулисы врывается экспансивная южная толпа — местные артисты и импресарио, и прежде всего, конечно, пресса, репортеры. Поздравляют наших, благодарят, восхищаются.
И к ведущему: кто вы? Откуда? Женаты? Есть ли дети?..
Он мягко улыбается. Переводчица объясняет: сеньор не знает португальского. То есть как? Не может быть! Это шутка? Остроумно. Нет, серьезно? Но ведь…
И наступает тишина — изумления, восхищения, разочарования?
Впрочем, последующие концерты проходят с неменьшим успехом.
Это был покойный Борис Брунов.
Неосторожность
JI. заведовал в одной из газет международным отделом. Газета не государственная, не официальная, но тоже центральная, и дело здесь было поставлено крепко. Л. знал свою работу — саркастически клеймил, выводил на чистую воду, разоблачал.
Наступили хрущевские времена, обстановка помягчела, и, хотя навыки ценились прежние, забрезжили среди облачности голубые окошечки, участились визиты.
И в редакцию прибыла делегация журналистов из закоренелокапиталистической страны, среди них и двое международников, которые хорошо знали Л., а он их — по печати, разумеется.
Гости, веселые, подтянутые, некоторые с фотоаппаратами, сидели в кабинете главного редактора за длинным столом, и странно было видеть их здесь, идейных противников, пьющих боржоми, жующих яблоки и непринужденно болтающих.
Л., взяв слово, призывал их к правдивости и объективности в отражении нашей действительности.
— Пора уже вам перестать изображать коммунистов в таком виде… — Он зажал в зубах нож для фруктов, вытянул шею и выпучил глаза.
А они — щелк, щелк! — мигом сфотографировали его.
Как же он испугался! Он представил себе на первых полосах, крупно, этот снимок и подпись к нему: Л. — шеф международного отдела известной русской газеты.
Ему стало плохо. Он начал юлить, заискивать, заглядывать в глаза. Они сохраняли невозмутимость.
Делегация улетела, он каждый день стал ждать удара, похудел, осунулся.
Но прошла неделя, две — ничего. Может быть, хотят в журнале? Тоже нет. Он постепенно приходил в себя, опять писал суровые обзоры, одергивал. Но все‑таки ощущение, что он у них на крючке, долго не отпускало.
Сотрудники газеты, рассказавшие мне об этом случае, стали со временем рассуждать о профессиональной журналистской этике и солидарности. Дескать, даже империалистические акулы, понимая, что публикация фотографии погубит Л., пожалели его.
Но причина, я это понял только впоследствии, была, конечно, в другом. Фотография просто не годилась для их газеты — Л. выглядел на ней слишком свободно, раскованно, по- американски, он мог себе позволить так себя вести. Вот в чем фокус.
Сливки обществаПредседатель Совета ветеранов нашего гвардейского Венского 38–го корпуса сказал на общей встрече:
— В воздушно — десантных войсках собраны сливки общества…
Никто из присутствующих в этой сентенции не усомнился.
Очередь за туалетной бумагой
Мой однокашник и ровесник Саша Николаев зашел с женой Женей в универмаг. А там продавалась туалетная бумага.
Прилавок был внизу, а очередь вилась по лестнице в середине зала, ее хвост терялся в верхних этажах.
Сашка был на войне командиром артиллерийского взвода, в жестоком бою против немецких танков потерял в сорок четвертом в Польше правую руку. Так и прожил по сути всю жизнь — ни ребенка кверху подбросить, ни женщину толком обнять.
Но парень веселый, остроумный. Как говорят нынешние радиожурналисты — юморной.
Он подошел к прилавку и вынул красную книжечку. Шаг, на который следует решиться: известно, как относятся у нас к инвалидам войны.
Сверху тотчас кто‑то крикнул:
— А этот почему без очереди?
Другой голос разъяснил иронически:
— Инвалид!
Третий:
— Подумаешь, руку ему оторвало!
Тут Саша поднял голову и сказал громко и доброжелательно:
— Руку мне оторвало, но ведь задницу‑то не оторвало!..
Ближние грохнули. Стоящие чуть выше заинтересовались
причиной, тоже засмеялись. За ними — еще…
Через минуту вся очередь на лестнице корчилась от хохота. Под ее конвульсии чета Николаевых и удалилась с сумкой, плотно набитой нежными рулонами.
Виль Липатов и значок
Когда‑то в переделкинском писательском доме была курилка под лестницей. Одни сидели на красных креслах и дымили, другие, облокотясь о перила, стояли на разных ступеньках и, свесив головы вниз, тоже участвовали в беседе.
Помню, кто‑то обратил внимание, что к кожаной куртке Виля Липатова привинчен многослойный рельефный значок, и спросил — что это такое?
Виль охотно объяснил. Совсем недавно в Министерстве внутренних дел учрежден особый почетный знак. Редчайшая награда. Ее имеют пока шесть или семь человек: разумеется,
Щелоков и еще самые достойные. В их числе и Липатов как любимый певец милицейской темы.
Он рассказал, что на днях, находясь за рулем, нарушил правила и не захотел выходить из машины. Разъяренные гаишники выволокли его, увидели знак и растерялись: то ли бить, то ли извиняться. А от него еще и попахивало. В результате один из них сел к нему в машину, отвез его домой, козырнул и попросил быть поаккуратней.
Присутствующие почтительно слушали.
Я дождался конца и спросил:
— Можно ли себе представить, чтобы до революции беллетрист, даже второстепенный, публично хвастался полицейским значком?