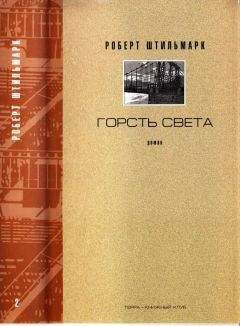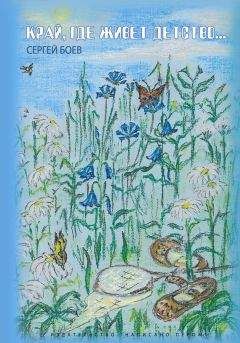РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
Когда Роня пересказал эту речь Зажепу, тот пожал плечами и буркнул:
— Что ж, так оно и есть. Форменные наймиты! Неглупый медик! Однако, ничего интересного в этой речи нет. Вот если бы вы, Вальдек, в отчете немножко повернули бы текст, переставили акценты, то могло бы зазвучать острее... Впрочем, как знаете!
Но чем дальше длились встречи Рони с Зажепом, тем нетерпеливее тот становился. Он опять делался грубым и придирчивым.
— Слушайте, Вальдек, вы совсем не способный к нашей работе человек. При вашем-то происхождении, ваших связях, встречах, обязанностях — могли бы горами двигать! А вы ничего существенного не делаете для нас, не помогаете нам. Ну, консультации. Для этого есть и специальные ведомства. Получили бы и без вас! Ну, мелкие фактические справки, кое-какие рекомендации... А где организация? Где разоблаченные враги-антисоветчики? Эх, Вальдек, Вальдек! А еще хотели быть острием кинжала, входящего в грудь врагу! Вот ведь и Максим Палыч вами давно недоволен. Да проснитесь вы! Я вам разрешаю несколько стимулировать ваши объекты... в направлении большей откровенности.
Зажеп любил выражаться замысловато.
— Объясните, что значит «стимулировать»?
— Ну, завести, скажем, осторожный наводящий разговор. Показать свой интерес к внутригерманским проблемам. Пусть мелькнут, в конце концов, будто невзначай, какие-нибудь портретики в вашем блокноте или бумажнике. Ну, там Гитлер, Гинденбург или хоть Николай Второй, что ли... Пусть где-нибудь будет наклеена крошечная свастика... Да слушайте, неужели вы сами ничего не можете придумать, чтобы расположить к доверию тех, кто всерьез мечтает о свастике и фюрере! А таких около вас — ого-го! Вот увидите, еще как клюнут! Крючок без наживки — плохая надежда. А с наживкой — оглянуться не успеете, почувствуете интерес врага.
— Иоасаф Павлович, поймите, что все это не для меня! Я ношу портрет Сталина и притворщик из меня — никудышный.
— А ваша жена?
— Тоже, как и я. Она — открытый и правдивый человек.
— А между тем, успешно работает. И продуктивно. Ею мы довольны.
Но ведь ей ни в чем не приходится притворяться, не надо разыгрывать то, что ей не свойственно. Значит ее руководство просто правильно сумело использовать такого работника. А вы, на мой взгляд, совершенно не умеете, простите за прямоту! Вы меня то дергаете, то торопите, то пугаете. Я лично все это представлял совсем иначе. Мою позицию никак не используете и навязываете круг людей мне чужой и поручаете разыгрывать из себя то, что мне чуждо. Все это просто невыносимо для меня. Времени я трачу много — толку вижу мало.
Ну, уж не так все черно, как вы обрисовали. Прошу вас, не принижайте значения вашей работы. От нее зависят прямые государственные интересы. Мы с вами еще поговорим об этом подробно. А пока — исполните то, что я вам посоветовал. Вас и Максим Павлович просит быть поактивнее.
В свежем номере «Гамбургер Иллюстрирте» Рональду попался снимок фюрера при очередном выступлении. Его физиономия вызывала у Рони чувство, близкое к тошноте. Одутловатая, мещанская физиономия, свиные тяжелые глазки, косо подрезанная челка на низком лбу... Держать при себе такую вырезку было мерзко, но он положил ее в блокнот. Назвался груздем — полезай в кузов!
На следующей же встрече с друзьями церковного органиста, во время танцев, Рональд стоял поодаль вместе с певцом Денике. Органист, вальсируя, как бы вручил Рональду его партнершу по танцам в ту минуту, когда он записывал в блокнот новый телефон Денике. Из блокнота выпала вырезка из «Гамбургер Иллюстрирте». Органист и Денике так и кинулись: «Покажи! Покажи!» Органист даже затрясся от восторга, впрочем искусственного:
— Ах, фюрер, фюрер! Какой это великий германец! Главное, хорошо, что я теперь тебя понял, Рональд! Ведь я не был в тебе уверен. Думал — ты искренний коммунист.
— А кем же ты считаешь самого себя? — насмешливо спросил Роня.
— Себя? Я — вот! — и собеседник, органист, изобразил быстрым движением руки невидимую свастику на своей груди. Роню передернуло от отвращения. Он ненавидел все, связанное с коричневой чумой, заразившей, затопившей великую европейскую страну. Рональд понимал, что там, в послеверсальской Германии, гитлеризм мог иметь успех среди тех немцев, кто страдал от национального унижения и мечтал о реванше. Но здесь, в России, где у немцев есть своя социалистическая республика на Волге и свои церкви в городах и селах, и своя большая центральная газета, и обширные колонии на юге, где выходцы из Германии давно создали свой устойчивый жизненный уклад, кажется немыслимым сочувствие «величию фюрера», автора «Майн Кампф», исполненной человеконенавистничества и национального эгоизма... Может, и органист притворяется в тех же целях, что и Рональд? Катя уже не раз высказывала о нем такое предположение...
А певец? Который тоже сочувствует фашизму? А может, и он притворяется? Вспомнился Честертон, «Человек, который был четвергом». Там все сыщики гонятся за таинственными адептами тайной организации, все эти адепты в конце концов оказываются тайными агентами полиции.
Но певца уже попросили к роялю, так как публика устала от танцев. Он запел «Гармонии стиха божественные тайны» Римского-Корсакова. И в один миг Рональд забыл и Зажепа, и свастику, и Гитлера. Мягкий, ласковый бас Денике проникновенно вливал в Ронину душу заветные слова и заветную мелодию. Как теплый ветер в ночную стужу ласкала душу мелодия... Все в нем замерло, как при наркозе, и с горечью ему подумалось, что похож он на кобру, зачарованную мелодией хозяйской флейты, но готовую, пробудясь, тут же уничтожить и певца, и органиста-аккомпаниатора.
Тем временем настала его очередь занять чем-то аудиторию. И он прочел старые свои стихи, времен институтских, не очень самостоятельные, с чужими заимствованными кусками, но пришедшие на память и показавшиеся, пожалуй, подходящими в тех целях «стимуляции». Стихи назывались «Кинжал». Речь шла о человеке, забывшем про свой кинжал, когда
Тот страшный год пришел... На черных небесах
Призыв последний загорался,
Но пламенный кинжал ржавел в чужих ножнах
И солью гнева покрывался...
Но клятве верности, я робкий, изменил,
Но я ушел за чуждым станом!
И друга предал я... И глубоко зарыл
Кинжал на берегу песчаном...
Ты не найдешь его! Теперь владеет им
Морей пустынная подруга,
И сталью звонкою под небом голубым
Поет соленый ветер юга.
Эти стихи были простительны семнадцатилетнему поэту. Писались они в Восточном Крыму среди киммерийской волошинской пустыни, и, кстати, нравились самому Максимиллиану Александровичу. Роня Вальдек познакомился с ним в 1926 году и затем общался еще в следующем своем крымском сезоне, работая экскурсоводом по Восточному Крыму, от Судака до Феодосии, пока не подался на Кавказ...