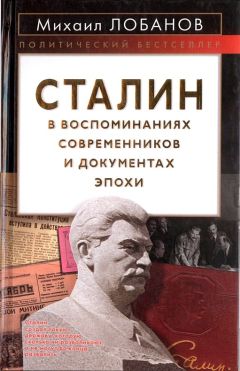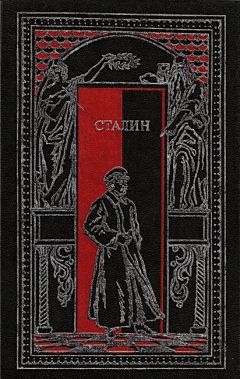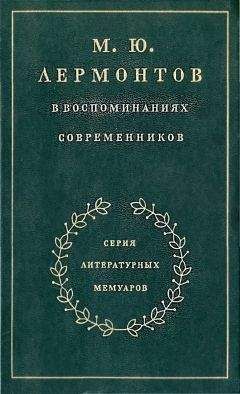Ростислав Юренев - Эйзенштейн в воспоминаниях современников
Сергей Михайлович ткнул подснежники в петлицу, и они тут же от немилосердных «пятисоток» сморщились, а Андрей Николаевич держал их в стакане с водой. Дня через два он, глядя на меня, брезгливо проворчал:
— В воду их — цветочки ваши… поставил… берег… а они — дьяволы — завяли…
Самое сильное, что я от него за все время услышала — это после одной сцены Ефросиньи:
— Мокро… от вас… под глазами… стало у меня… Черт те что!..
Мы с Андреем Николаевичем вместе ехали в трамвае на похороны Сергея Михайловича. Мы единились нашей утратой.
— Больше в Москву… не приеду… Никогда… — сказал Москвин.
А теперь и Москвина нет…
«Ефросиниада»
Несколькими строчками одного из моих «стихотворных произведений», посвященных Эйзенштейну, исчерпывающе сказано, что значила для меня работа над образом Ефросиньи, что значил для меня Сергей Михайлович Эйзенштейн — режиссер.
Вот чет и нечет
Моих алма-атинских дней.
То светлых красок,
То теней.
Я чрезвычайно взволнована тем, что Эйзенштейн сохранил в целости мои «вирши»: ведь они — документы, они — своеобразный дневник, они — контролеры воспоминаний. Легко исказить былое: сгустить тени или пересахарить то, что было истинно добрым. Мне хочется избежать подобного искажения, и вот не только вполне разумные, вполне деловые мои три письма к Эйзенштейну, но и некоторые из коротких рифмованных моих посланий к нему пусть послужат ориентирами для памяти.
Мы очень редко разговаривали с Сергеем Михайловичем: я не хотела или не умела попасть ему в тон — шутливый и даже чуть-чуть насмешливый. Мне хотелось именно с ним говорить об искусстве, о наших репетициях, о моем репетиционном самочувствии, узнать, как он относится ко мне в работе. Но не было чувства равенства между нами, чтобы серьезно и искренне разговаривать. Вот почему все мысли, чувства, сомнения, тревоги я выражала письменно. «Эпистолярный тип обращения» — так назвал Эйзенштейн в своем единственном письме мой способ общения с ним.
Как разнятся обращения к Эйзенштейну «стихами» от обращения к нему письмами, хотя тема одна: трудно идут репетиции и съемки.
Не получается то, чего друг от друга ждали. Не сбываются надежды обоих. Эйзенштейн раздражен и огорчен: я подрываю его авторитет — ведь, как на скачках, он «поставил» на меня — актрису.
Что чувствую я?
Стыд.
Мучительно осознавать, что не оправдываешь доверия.
Такой невосприимчивой, как на репетициях «Грозного», не помню себя.
Почему мне больно? Почему даже страшно?
Сергей Михайлович требовал, чтобы я была «главой рода», «каменной бабой». В статических сценах я его устраивала своей Ефросиньей. Но там, где темные страсти владели «послушливой» душой этой властолюбивой женщины, там в душе Бирман был камень, а не грозы и шквалы Ефросиньи.
Было то, что я называю двухмерностью, то есть только подобающим выражением лица или, что красноречивее, — «потемкинскими деревнями»; хлеба там не спечешь, щей не сваришь.
Эйзенштейн тяжело переносил мою неподатливость, считал меня упрямой, возможно, что и тупой.
Мне было больно, что я не оправдываю его надежд, оттого репетиции становились все безотрадней для меня и для режиссера.
Может быть, следует навсегда в архиве ЦГАЛИ оставить покоиться стихотворные записи тех дней, тех репетиций? Нет, это было бы неверным. Полушутка имеет право на жизнь: ведь «собака под енота» все же греет в мороз.
Эйзенштейн не выражал свое разочарование мною в масштабах, тому соответствующих. И я не хотела в открытую показать свое отчаяние. Результат — послание, так сказать, в «стихах»:
Сказали мне вчера пред съемкой
При всех. С брезгливым выраженьем глаз:
«Закрыли мне царя! Испортили мне пленку!»
Вы правы: делово и юридически,
фактически, логически и всячески.
Вы правы. Точка.
Все ж…
Не только не прощаю, но даже обвиняю вас:
Когда ругаете за дело
И жалите, но с жалостью, ну, ладно, я стерплю.
Но выговор сухой? И вы, как «завотделом»?!
Бездушность вам — художнику — я не прощу.
Не соглашусь на то, чтобы в работе
Остаться без надежд, без красоты:
Жизнь не построена на сумрачной заботе:
Я не хочу пройти пути без золотых ковров Мечты:
Поймите по себе, что людям очень трудно,
И не ворчите на зависящих от вас:
Ведь радости «паек», как свет лучины скудной.
Тревожно… Тяжело… Темно и без сердитых ваших глаз.
Сергей Михайлович никогда ни словом не обмолвился насчет моей «поэзии», при встрече со мной после очередного послания он только насмешливо улыбался. Но все же не порвал ни одной из этих как бы шутливых страничек.
Они были «эзоповским языком»: о трудном так было легче говорить с этим неразгаданным мною человеком.
Думается, что предельно серьезно Эйзенштейн говорил с людьми только такого высокого творческого роста и значения, как Мейерхольд, Прокофьев, Чаплин. И с Москвиным, может быть?
Но и с этими дивными людьми он говорил душевно, мне кажется, только о сфере искусства. Не представляю, чтобы перед кем-нибудь из них Эйзенштейн заплакал, выразил бы безмерную радость. «Камуфляж» — неискоренимое свойство Эйзенштейна: утаить, зарыть, похоронить то, чем полно его чуткое сердце.
Вы зрячий там,
Вы ясновидящий,
И знаете, куда идти.
Так почему же вы в тенетах
Своей единственной души?
Он не любил откровенности. Избегал ее. Свое внимание выражал шутливо. Вот, например, как он отнесся к строке: «Я не хочу пройти пути без золотых ковров Мечты». Как-то, свободная от съемок, читала я что-то у себя в комнате. Была уже ночь. Вдруг за мной прибегают из студии: «Скорей! Скорей! Сергей Михайлович требует».
Бегу. Вхожу в павильон, изображающий собор. И… предо мной расстилается парчовая дорожка метров в сорок длины. Я поняла: это мои «золотые ковры Мечты». Меня подхватывают с двух сторон и ведут к трону… Но на трон я не села. Очень тихо произнесла: «Шутка? А я не шутила…» И направилась к выходу.
Нет! Я не упрямилась. Я очутилась в неведомой мне творческой стихии. Хотела постичь ее законы, но была не в силах этого добиться. Я не имела сил изнутри оправдать то внешнее, что устроило бы двух замечательных художников — Эйзенштейна и Москвина.
Страшно даже признаться, но я преодолею страх и скажу — меня почти не увлекали отснятые и отпечатанные кадры «Грозного», уже одобренные Сергеем Михайловичем. Они не хватали за сердце. А обязаны были хватать.