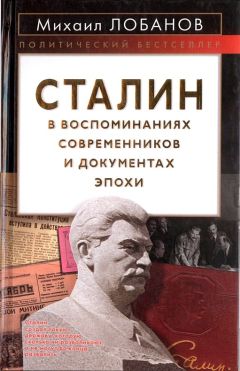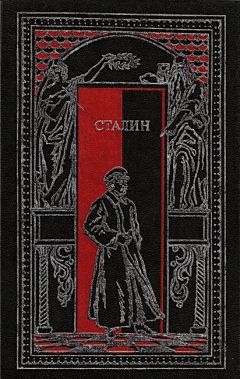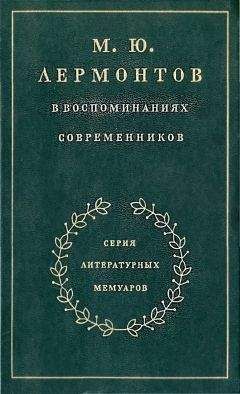Ростислав Юренев - Эйзенштейн в воспоминаниях современников
Что у Москвина не было на меня никакой надежды, понял Эйзенштейн, поняли товарищи технических цехов, делово заинтересованные первой встречей актрисы и оператора.
Провалом моим был дискредитирован Эйзенштейн. Дискредитирован и демобилизован, так как знал, что Москвин отдал все свое сердце работе над «Грозным». Но, себя ли успокаивая, сострадая ли мне, Сергей Михайлович постарался всячески скрыть свое смятение: на цепи держал на своем лице улыбку, хотя она неудержимо рвалась к немедленному бегству.
Элегантно растягивая слова, Эйзенштейн обратился к человеку с добрым русским лицом (кажется, назвав его «Васей») и попросил «заняться» мной. Это был гример-художник Василий Васильевич Горюнов.
И вот наступил день пробы грима Ефросиньи. Грим не вышел! Мастерство гримера, изобретательность, сила его желания вывести всех нас из тупика не принесли желанного — грим не вышел. Да и показывалась я в наскоро подобранных костюмах, не дарующих, а отнимающих сходство с образом.
Грим и не намекал на «главу рода». Я оставалась безликой. А это означало бедствие!
Сергей Михайлович вызвал меня к себе, долго смотрел на меня:
— Серафима Германовна, не выходит. Вместо царицы в парче вы — стрекоза в целлофане.
(Вот откуда обращение «Стрекоза» в письме Эйзенштейна.) Долго мы молчали. Я нарушила молчание:
— Сергей Михайлович, вы понимаете, что моего провала не простят не только мне, но и вам? Так я уеду в Москву. Ищите другую.
Вместо ответа он снова стал всматриваться в меня, будто рентгенизировал, будто гадал: что будет, если я действительно останусь? С интонацией, лишенной обычных человеческих эмоций, произнес:
— Погодите… Посмотрим еще…
И все. Я вышла от него, перешла лестничную площадку и, очутившись в своей комнате, рухнула на диван. Затем приняла позицию покойницы, сложив на груди похолодевшие руки, — все для меня было кончено.
Не помню, долго ли продолжалось такое состояние. Прервалось оно стуком. В комнату вошел Василий Васильевич Горюнов.
Он знал положение дел и совсем не удивился, что я безжизненна.
Посидел у моего «ложа». На милом лице его отразилось напряжение мысли и движение чувств.
— Вот что, — сказал он, — а ну, давайте еще раз попробуем? А? Еще раз? А?
— Нет! — прохрипела я. — Нет! Нет! Ничего не получится! Ничего! Нет! Нет! Нет!!
Но Горюнов настаивал:
— А вдруг? И другие помогут. Завтра воскресенье. Выходной. Вот мы и попробуем. Не отказывайтесь… Зря! Ведь большое дело может пострадать…
«Ведь большое дело может пострадать!» Простые слова, и не эффектна интонация, с какой их произнес Василий Васильевич. Она была антитезой всему псевдогероическому: все в ней сверху было тихо, скромно, а снизу — глубокие корни исконно творческого отношения к труду: «Большое дело может пострадать». Как же посмела бы я ослушаться?!
И состоялась «еще раз» проба грима. В мерзлом павильоне Ала-Тау собрались гримеры, парикмахеры, художница Лидия Ивановна Наумова, портнихи, осветители, фотограф Виктор Викторович Домбровский… (Мне стыдно, что не могу перечислить поименно всех тех людей, которые отдали свой выходной день, чтоб отстоять своего «Грозного», своего Эйзенштейна, чтобы избавить работу над фильмом от проволочки, себя — от печали: они любили работу, интересовались ходом ее.)
Эйзенштейна многие обвиняли в индивидуализме: быть может, в этом есть некая и довольно большая доля правды, но почему же тогда добивался Эйзенштейн творческого подъема не только в актерах, но и в технических цехах съемочной группы?
Индивидуалисты от «подчиненных» добиваются безоговорочного исполнения всех своих требований, но самодисциплина рождается не по приказу, а любовью к общему делу.
Самому незначительному работнику умел Эйзенштейн сообщить достоинство участника общего дела.
Не словами — делами доказана была эта общая заинтересованность хотя бы в случае, о котором идет речь: не о холоде павильона говорил пар, клубами вырывавшийся вместе с дыханием людей в то воскресное утро, а об общем стремлении добиться лица Ефросиньи.
И добились.
На другой день еще за дверью крик Эйзенштейна: «Ура! Ура!» — и нетерпеливый стук в дверь уже говорили о какой-то большой радости.
С этим ликующим криком благой вести вбежал в комнату Эйзенштейн и протянул мне кипу фотоизображений Ефросиньи — грим был найден!
А как же Москвин? Андрей Николаевич? Как он себя теперь чувствовал?
Крутым человеком был этот талантливый оператор. Не хотел он отказываться от своих первых заключений на мой счет. Упирался…
Как-то раз на съемке к нему обратился Эйзенштейн:
— Хочу «крупешник» Серафимы Германовны в этом кадре чтобы вы сделали. (То есть чтоб Москвин снял крупным планом мое лицо в гриме.)
Пауза…
— Пленка кончилась… — странным голосом произнес Москвин.
— Съемка отменяется, — по дороге к выходу из павильона спокойно выговорил Эйзенштейн, — оператор не обеспечил ее необходимыми материалами, как, например, пленкой…
Я прекрасно помню нервную судорогу на лице Москвина. Второй режиссер «Грозного» Борис Свешников, взволнованный происшедшим, растерянно обратился ко мне:
— Это не из-за вас, Серафима Германовна…
— А я и не думаю, что из-за меня, — произнесла я, для себя необыкновенно спокойно, даже больше чем спокойно. — Я только думаю, что не заслуживаю такой грубости, что имею некоторое право на внимание к себе.
Думаю, что это происшествие все же запомнилось Москвину.
Прошло довольно много времени, и стало ясно, что он не может освободиться от сознания бессмысленности своего выпада.
Раздумывая над чем-то нерешенным, Москвин обычно насвистывал без всякого мотива.
Как-то на одной из съемок, зацепив меня беглым и странным взглядом, он отошел в сторону и, продолжая насвистывать, долго разглядывал что-то на стене, в данный момент ему абсолютно неинтересное, и, наконец, буркнул, не поворачивая головы:
— Ненавидите?.. — (Свист.) — Отчего? — (Тихий свист.)
— Оттого что вы ненавидите меня…
Свист замер, и снова возник, и снова прорвался бурканьем:
— Наоборот!..
Продолжения в тот раз не было.
Москвин не говорил плавно, ровно, он «выбрасывал на прилавок» обрывки своих мыслей, клочки чувств.
Изредка стал он звать меня «мадам», выражая тем свое внимание.
Ну, и я, конечно, не держала зла: начала понимать сложный характер Андрея Николаевича.
Весна размягчает сердца, как солнце — заледенелую землю: одна молодая осветительница принесла мне с гор маленький букетик первых подснежников. Сергею Михайловичу и Андрею Николаевичу я уделила по два цветка.