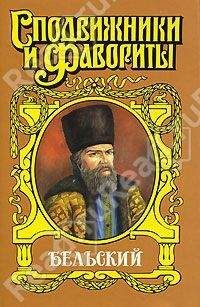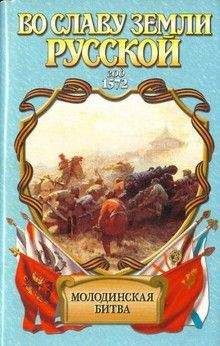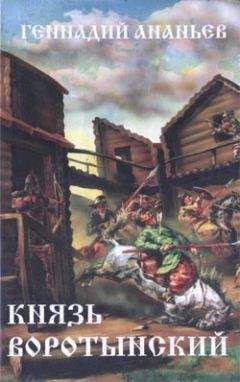Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Шуточное прозвище Песья Голова она дала мне по некоторой ассоциации с легендой о св. Христофоре. А придворным чтецом-декламатором назвала она меня потому, что время от времени я по ее просьбе наизусть читал стихи ей, Маргарите Николаевне и кое-кому из знакомых. В ту пору в Москве начал быстро входить в славу Сурен Кочарян. Как-то раз Евдокия Дмитриевна Турчанинова сказала Татьяне Львовне:
– Танечка! Послушай ты Кочаряна! Ах, как он читает! У него не голос, а целый оркестр!
Татьяна Львовна послушалась совета своей старинной приятельницы и убедилась в ее правоте. С тех пор я стал называться не только Песьей Головой и не просто «придворным чтецом», но и в честь Кочаряна – «придворным чтецом Любимьяном».
3 августа 1940 года Татьяна Львовна писала мне с Николиной горы в Тарусу:
«Дорогая Песья голова – последняя моя надежда рухнула с твоим письмом: значит, я эту книгу куда-то девала – а куда, и ума не приложу. Ну, нечего делать, в Москве авось разыщу где-нибудь в недрах наших шкафов, м. б. в буфете или в туалетном ящике – у нас бывает. Ну, милый – посылаю привет Тарусе… мне так грустно, что не увижу ее, не взгляну в ее голубые очи… И обидно, что не будет наших уютных чаепитий, а иногда и кое-чего другого – хорошая вещь зеленая настойка на смородиновом листе под винегрет – помнишь?.. Вместо Любимьяна нам тут читает стихи Маяковского, а то и Пушкина, Вас. Ив. Кач.[алов] – книги я беру у проф. Адоратского, и между прочим с большим удовольствием читаю нового для меня швейцарского классика (40-е годы) Г. Келлера. Это редкое ощущение: найти кого-то, кого не читал и кто дает пищу “уму и сердцу”…
Не думай, однако, чтобы я без удовольствия вспоминала Любимьяна и не ждала возобновления наших литер, вечеров. Передай наши приветы прежде всего Марг. Ром.[79], – а затем всем, всем, всем – особенно Над. Ал. и Соф. Вл., фамилии которых ты так непочтительно перепутываешь[80]. Ох, не сносить тебе своей песьей головы… Впрочем, как писалось в старину, целую тебя крепко и поручаю воле Провидения. Будь здоров, милый мой, не забывай твоих старых друзей. Т. Щ.-К.
Кланяйся бабке Наталье[81] и напиши, как живут все и чем тебя угощает С. Зах.»
В последней фразе намек на не чересчур тароватую общую знакомую, писательницу Софью Захаровну Федорченко.
«Любимьян» читал на Тверском бульваре стихи Есенина, Маяковского, Багрицкого, Пастернака, Ахматовой, Антокольского, Асеева, Светлова, Сельвинского, Луговского, Прокофьева, Павла Васильева, Ярослава Смелякова. Что-то нравилось Татьяне Львовне больше, что-то меньше, что-то совсем не нравилось, но интерес у нее вызывали все. При первых наших встречах я заметил, что Татьяна Львовна в общем равнодушна к своим современникам. Отзывалась она о них сдержанно. В 1926 году на мой вопрос о Есенине ответила, например, так:
– Талантлив несомненно. Если бы так рано не ушел из жизни, выписался бы в настоящего поэта.
А теперь Татьяна Львовна восхищалась им, говорила, что в своих последних стихах он достигает почти пушкинской элегической прозрачности. Особенно полюбилось ей его стихотворение «Отговорила роща золотая…». Я много читал ей Сельвинского. Под впечатлением от его «Цыганских вальсов» и «Рапсодий» Татьяна Львовна, не будучи знакома с Сельвинским, позвонила ему и, предупредив, что это разговор не деловой, а чисто лирический, сказала попросту, от души, что ей очень нравятся его стихи, и тотчас повесила трубку. Стихотворение Багрицкого «О поэте и романтике» вызвало у нее на глазах слезы.
– Довел старуху! – с шутливой укоризной обратилась она ко мне.
Внимание к современной литературе обострилось у Татьяны Львовны, думается, после того как она снова обрела свое место в искусстве, когда у нее прошло чувство горечи от сознания своей ненужности.
Художественное восприятие у нее было чуткое и емкое, она умела отделить субъективное ощущение от объективной оценки – свойство редкое вообще, у писателей в частности и в особенности. Объективность изменяла Татьяне Львовне в редких случаях. Как-то зашел при ней разговор о Николае Тихонове.
– Я была в Ленинграде на его вечере – и не могла досидеть и дослушать. На меня смотрели его холодные глаза убийцы. И этот хамский голос! Брр! До сих пор без отвращения вспомнить не могу.
По сугубо личным мотивам Татьяна Львовна не любила Вл. Ив. Немировича-Данченко, отрицала все его заслуги перед Художественным театром, не желала принять во внимание даже то, что ее любимого Чехова открыл и раскрыл театру Немирович.
Разумеется, и символизм, и акмеизм и тем более футуризм в целом остались Щепкиной-Куперник чужды. Но это не мешало Татьяне Львовне отдавать дань уважения далеким ей художникам слова, дружить с Сологубом, с Городецким, с Игорем Северянином. О Федоре Сологубе она отзывалась так:
– Безгранично талантливый писатель.
Вот что рассказывала Татьяна Львовна о нем и его жене – известной в свое время переводчице Анастасии Николаевне Чеботаревской:
– Сологуб женился поздно, на немолодой, внешне неинтересной, невзрачной, всегда не к лицу, безвкусно одетой и все же очень милой женщине. И с ее и с его стороны это было глубокое чувство. Они производили впечатление трогательной, горячо любящей пары. До революции в Петербурге мы друг у друга бывали. Как-то раз Сологуб с Чеботаревской сидели у меня, и вдруг я заметила, что на лицо Анастасии Николаевны легла тень. Наконец, я не выдержала и спросила ее: «Что с вами? Вам нездоровится?» Оказалось, Анастасия Николаевна потеряла кольцо. Тут переменился в лице и Сологуб. «Вы не можете себе представить, как нам дорого это кольцо, – говорила Анастасия Николаевна. – Мне подарил его Федор Кузьмич. Для нас обоих это символ нашей любви». Я старалась их успокоить: «Бели вы потеряли кольцо у меня, то оно завтра же найдется. Я утром вызову полотера, и он все здесь перевернет вверх дном». Однако разговор уже не клеился – настроение у моих гостей было безнадежно испорчено. На другой день я действительно позвала полотера, и кольцо нашлось. Я помчалась к Сологубам. Радости их не было границ. Думала ли я тогда, что несколько лет спустя – осенью двадцать первого года – Анастасия Николаевна бросится с этим кольцом на пальце в реку и как будет страдать Сологуб, не только оттого, что Анастасия Николаевна в припадке умоисступления утопилась, но еще и оттого, что она унесла с собой символ их любви? Думала ли я, что еще через несколько месяцев Сологуб опознает труп своей жены, который прибило к берегу полой водой, по этому же самому кольцу на пальце?
В архиве Щепкиной-Куперник сохранилась драматическая сцена: ее сюжет – кончина Блока.