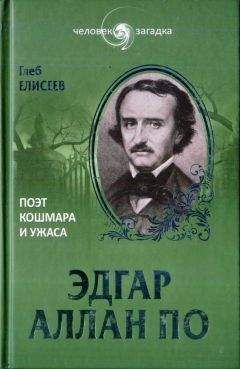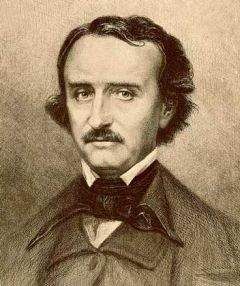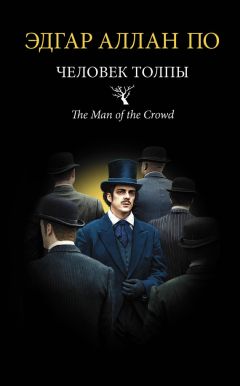Андрей Танасейчук - Эдгар По. Сумрачный гений
Место было уединенное, как раз такое, о каком мечтала Вирджиния. Оставила миссис Гоув и описание женщин, обитавших в коттедже:
«По случаю меня представили молодой жене поэта и ее матери, которой тогда было уже за шестьдесят. Она была высокой, достойной пожилой дамой с благородными манерами. Ее черное платье, хотя и довольно поношенное, смотрелось на ней элегантно. На голове был вдовий капор особого кроя, очень изысканно сочетавшийся с ее снежно-седыми волосами. У нее были крупные черты лица, и они гармонировали с ее внушительной фигурой. Вызывало удивление, как такая крупная царственная особа могла стать матерью миниатюрной дочери. Миссис По выглядела очень юной; у нее были огромные черные глаза, оттененные бледностью жемчужной белизны кожей лица. Ее бледное лицо, искрящиеся глаза, волосы цвета воронова крыла производили впечатление совершенно неземное».
Но от взгляда посетительницы, естественно, не ускользнуло, что Вирджиния очень больна:
«Не было нужды в особой проницательности, чтобы понять — душа едва теплится в этом прекрасном создании, и, когда она кашляла, становилось понятно, что жить ей осталось совсем недолго».
Однако вернемся к жилищу поэта.
«Дом был пронизан духом аристократизма и вкуса, источником которого служили его обитатели. Все было очень аккуратно, бедно, почти без мебели, но такого очаровательного жилища я никогда прежде не видела. Пол на кухне был выскоблен добела. Стол, стул и небольшая печка — вот и все, что там находилось, но обстановка казалась завершенной — ничего не добавишь. Пол в гостиной укрыт половиком; четыре стула, легкая конторка для письма и книжная полка на стене завершали меблировку»[351].
Хотя от посетительницы не укрылась бедность обитателей Фордхэма, картина получилась почти идиллической. Увы, таковой она могла представляться только со стороны. Семья бедствовала. Летом — усилиями деятельной миссис Клемм — им еще как-то удавалось сводить концы с концами (помогали «дары природы» и приношения сердобольных соседей), но с приближением осени ситуация стала приобретать угрожающий характер. Тем более что По ничего не писал и гонораров, соответственно, не было. В декабре 1846 года он сообщал Чиверсу:
«Я проболел около шести месяцев и большую часть этого времени — тяжело, будучи не в силах составить даже обычного письма. Все мои журнальные публикации, появившиеся в этот период, были переданы издателям еще до того, как я захворал».
Что касается «обычных писем», изучение переписки показывает, что это не совсем так. Ее интенсивность летом, осенью и в начале зимы действительно снизилась. Но письма По писал. А вот то, что он ничего не сочинял и не занимался журналистикой, полностью соответствует действительности.
Что касается его болезни — речь не идет об «интоксикации». В Фордхэме поэт не пил. Можно предположить, что после водворения в загородном доме Эдгара По настиг очередной приступ упадка сил. Что, впрочем, совершенно неудивительно, учитывая те треволнения, что предшествовали этому. А осенью и зимой это могла быть простуда — много ли тепла давала «маленькая печка» на кухне? Денег на дрова (а тем более на уголь) у них не было. Топить приходилось сухой травой и хворостом. Пальто — единственное — у поэта имелось. Но поношенное. Согревало оно плохо.
«Хворь», о которой он писал Чиверсу, была главным образом, конечно, нервного свойства: его Вирджиния угасала, а он ничем не мог ей помочь.
В ноябре коттедж в Фордхэме вновь навестила миссис Гоув:
«Пришла осень. Миссис По быстро угасала от туберкулеза. Я увидела ее в спальне. Все кругом нее было в чистоте и безупречном порядке и так скудно и по-нищенски убого, что вид несчастной страдалицы вызвал во мне щемящую жалость — такую, какую способны испытать лишь бедняки к беднякам. На кровати не было покрывала, только соломенный тюфяк, а на нем белоснежные простыни. Погода была холодной, больную сотрясал озноб, что обычно сопровождает чахотку. Она лежала на соломенной подстилке, укутавшись в пальто мужа, а на груди у нее лежала огромная пестрая кошка. Чудное создание, видно, понимало, что приносит большую пользу. Пальто и кошка единственно только и согревали несчастную страдалицу, за исключением того, что муж согревал ее руки, а мать — ноги»[352].
Случайный, видимо, визит принудил женщину к немедленным действиям:
«Как только я увидела эту ужаснувшую меня картину, я направилась в Нью-Йорк, где заручилась сочувствием и помощью одной дамы, чье сердце всегда открыто, а руки готовы помочь всем обездоленным и страдающим».
Даму, к которой обратилась миссис Гоув, звали Мэри Луиза Шью (1821–1877). Она была далека от литературного мира, и едва ли ей было знакомо имя Эдгара По. Но она деятельно занималась благотворительностью, изучала медицину и совершенно искренне сопереживала больным и страждущим. Если бы ее не было, даже трудно представить, каким тяжелым оказался бы уход Вирджинии. И что сталось бы с ее мужем в первые недели после ее смерти.
«Пуховая перина и разнообразные постельные принадлежности были посланы немедленно, — продолжает миссис Гоув. — Леди организовала подписку и уже на следующей неделе приехала и вручила им собранные 60 долларов»[353].
С конца ноября — начала декабря 1846 года миссис Шью прочно обосновалась в доме, установив дежурства у постели Вирджинии. Она самоотверженно ухаживала за больной и, судя по всему, не только смогла облегчить ее страдания, но своими заботами и назначенным лечением (несколько раз, оплатив визиты, она привозила врача) отсрочить кончину молодой женщины.
Поэт, несмотря на то что все время пребывал в отчаянии и ни на чем не мог толком сосредоточиться, был глубоко потрясен этим великодушием и, несомненно, сумел оценить самоотречение и бескорыстность миссис Шью.
Известно, что он посвятил ей несколько стихотворений. Все они были написаны, конечно, не тогда же, а позднее — уже после того, как страдания жены и его собственные были позади. К великому сожалению, сохранились только два из них. Одно — оно озаглавлено без затей «К М. Л. Ш***» (то есть «К Мэри Луизе Шью») — невозможно не процитировать:
Из всех, кому тебя увидеть — утро,
Из всех, кому тебя не видеть — ночь,
Полнейшее исчезновенье солнца,
Изъятого из высоты Небес, —
Из всех, кто ежечасно, со слезами,
Тебя благословляет за надежду,
За жизнь, за то, что более чем жизнь,
За возрожденье веры схороненной,
Доверья к Правде, веры в Человечность, —
Из всех, что, умирая, прилегли
На жесткий одр Отчаянья немого
И вдруг вскочили, голос твой услышав,
Призывно-нежный зов: «Да будет свет!» —
Призывно-нежный голос, воплощенный
В твоих глазах, о светлый серафим, —
Из всех, кто пред тобою так обязан,
Что молятся они, благодаря, —
О, вспомяни того, кто всех вернее,
Кто полон самой пламенной мольбой,
Подумай сердцем, это он взывает
И, создавая беглость этих строк,
Трепещет, сознавая, что душою
Он с ангелом небесным говорит.[354]
Здесь и бесконечное преклонение, и удивление человеческими качествами миссис Шью, ее самоотверженностью, и искренняя признательность «светлому серафиму» и «ангелу небесному».