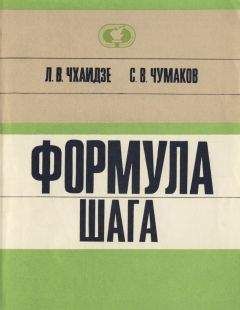Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний
Наконец, поезд с делегацией медленно отчалил от перрона Белорусского вокзала. (Вот фраза, достойная члена Союза писателей, разве нет?) Судьбе было угодно поместить меня в одно купе с ВВ. Расположившись и попив чайку, мы предались беседе. ВВ стал доверительно жаловаться на трудности секретарской доли.
Понимаете, БМ, рассказывал он, никто не хочет брать на себя ответственность. Все стремятся переложить решения на чужие плечи. Мы обращаемся в эмка (Московский комитет партии, господа! — ББ), а нам говорят, что вы, мол, специалисты, вы сами и разбирайтесь. Некоторые члены Союза художников выставляются на подпольных выставках и еще всякое вытворяют, а что мы можем сделать? Вот есть такой Тяпушкин, член Союза, пишет абстрактные картины, принимает участие во всех нелегальных акциях, его надо гнать из организации советских художников! Но он, видите ли, Герой Советского Союза. Мы хотели его исключить, а генералы из Комитета ветеранов войны говорят: «Тяпушкина не трогать».
Нет, 3. не шутил. Все‑таки многолетнее пребывание в околоруководящих сферах травмирует интеллект, остаются грубые рубцы. А я предвкушал, как перескажу эту речь моему другу Алексею Тяпушкину, когда доберусь до его мастерской — прямо на улице Горького, ныне Тверской, напротив Центрального телеграфа (герой, как‑никак, и по — честному, за войну, пулеметчиком), — чудесной мастерской, где в окружении совершенно абстрактных картин, да еще с вклеенными туда вещественными осколками повседневной жизни, можно было увидеть и реалистический, комар носа не подточит, портрет генерала при регалиях («Боря, семью кормить все же надо, это сосед — генерал заказал») и поговорить обо всем, от политики до семиотики, не забыв и об искусстве живописи… Ох, Алексей, какой ты был замечательный мужик! Надо бы о тебе вспомнить отдельно. Долгов больше, чем времени.
Но вот Брест, небольшой таможенный скандал с секретарем Союза художников РСФСР из Ростова (будучи в отношении искусства человеком неколебимо — идейно — надежным, он, однако, попытался нанести ущерб экономике родины, припрятав где‑то лишние рубли) — и мы на финишной прямой к Варшаве. Тут 3. собирает всех в наше купе и спрашивает: да, товарищи, а кто, собственно, о чем собирается говорить?
И каждый приблизительно излагает свою тему.
***В Варшаве нас встречают высокопоставленные представители Союза художников, разные лица, и в их числе — переводчица, которая с нами будет работать, пани Зофья по имени, но наша советская женщина, штатная переводчица родного Союза художников, стукачка. Своеобразие национальной культуры являет себя в самых неожиданных местах; вот мы говорили «она стучит», а мои польские друзья сразу мне шепнули: «Pan Borys, ona pisze», что означает, что «она пишет». Эти особенности языка изучает специальная наука — этнопсихолингвистика, вот что она нам говорит: «… общение такого типа подчиняется правилам метаинформационной конвенции третьего типа, в рамках которой сложно взаимодействуют трансинформационные и дезинформационные факторы (и в частности фактор молчания, умолчания)…»[61]
Столько пока о стуке.
Для знакомства был задан большой утренний банкет — прямо в гостинице. К концу пиршества выяснилось, что сегодня свободный день, с культурной программой к вечеру, а завтра рано утром все уезжают в Быдгощ, где открывается монструозная всепольская выставка — фестиваль под названием «Искусство факта», «Штука факту», если по — тамошнему. Завтра торжественные церемонии, а послезавтра там же и Совместный Секретариат начнем. А следующее совместное заседание произойдет уже в Варшаве.
Для проведения свободного времени в Варшаве есть неисчерпаемые возможности. Прежде всего, надо пройтись гоголем по Маршалковской и заглянуть в заветный магазинчик, туда, где в скромных двухэтажных павильонах неистовствовала дозволенная частная инициатива, и купить себе беретик. Я знал многих интеллигентных людей, которые тешили свой интеллект беретами «от Тьешковского»; кроме того, варшавский беретик был просто знаком, по которому члены сообщества полонофилов опознавали друг друга. Далее, можно было дойти до самого Дворца культуры и науки, бывш. имени Сталина, это был братский подарок советского народа, свободная копия московских вертикальных тортов; патриоты Варшавы оценили его словами «невьельки але густовны» — небольшой, но со вкусом. От храма вкуса надо было повернуть налево, на Иерусалимские аллеи, где можно было навестить недурные книжные магазины… Ну, а затем выставки в выставочном заведении Захента, десятки, если не сотни, галерей и галереек, а что в кино показывают!
Вы знаете, куда мы пошли с этим же 3., пока другие шатались где‑то по магазинам? Мы пошли в кино и посмотрели один из шедевров Анджея Вайды — «Человек из мрамора», фильм, строжайше запрещенный тогда на нашей родине. Широк человек, говаривал Достоевский. Это я не про персонажа фильма, а про моего спутника.
Вечерняя культурная программа предусматривала визит к художнику Анджею Струмилло. Анджей был человек выдающийся: крупный, костистый, рыжий, ражий, он занимался живописью, графикой, сценографией, писал стихи, иллюстрировал книги, странствовал, однажды раздобыл в Гималаях самку гималайского медведя и провез ее через все страны, включая СССР, в Варшаву — чтобы самец, обитавший в варшавском зоопарке, как Адам в раю, не скучал…
Мастерская его была где‑то в просторной мансарде сразу за новым средневековым Рынком, отстроенным после войны по картинам Бернардо Белотто. Вот нас по очереди представляют Анджею и его супруге, дело доходит до меня, я, оказывается, из Таллинна, и тут хозяин со своим гималайским напором начинает орать, что о, пан! вот, а у нас сейчас как раз тут выставка! Одной таллиннской художницы! такие сериграфии…
Кошмар. Он горлопанит в присутствии 3. и стукачки Зофьи о совершенно безобразной выставке Малле Лейс, устроенной в обход всех законов и правил. Ибо зарубежные выставки, как, впрочем, и выставки в отечестве, — дело государственное, идеологическое, и никакой самотек здесь недопустим! Я‑то об этой выставке все знаю, знаю, что Малле с мужем сейчас в Варшаве, я собираюсь ей позвонить и встретиться, — конечно, можно встретиться и в Таллинне, но в Варшаве‑то пикантней. Однако этим знать о выставке никак нельзя. Поэтому я откликаюсь на грохот Струмиллы холодно, точнее — совершенно незаинтересованным молчанием, и быстро открываю другую тему — кажется, удачно. Вечер прошел мирно, все как бы обошлось, но Струмилло пошел нас провожать: поздно, ночь, знаете… Мы пересекаем по диагонали возрожденную из картин рыночную площадь, и тут Анджей тащит нас к углу, где светятся окна какой‑то галереи, а за окнами переливаются красками прекрасно освещенные сериграфии Малле. Вот, вопит Струмилло, вот ваша выставка!