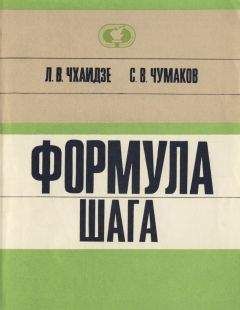Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний
Я знаю, за всем этим он слышал безразличный ритм уходящих часов, месяцев, лет. Когда дело подходило к шестидесяти, он написал статью о времени. Переживание рубежа было выражено наиболее освоенным и достойным способом — философским. Последняя книга, над которой он работал и, кажется, успел дописать, была книга о бытии и небытии. Сначала это была статья в «Вопросах философии» и, как часто у него бывало, статья разрослась в книгу. По поводу статьи у нас вышел спор, тем более что предмет этого спора наметился в другой, ранее написанной работе. Первые главы «Бытия и небытия» (не знаю, таково ли окончательное название) он мне присылал, они хранятся в памяти моего компьютера. Не исключено, что там что‑нибудь переделано. Всю книгу я пока не читал. Поэтому следующий абзац — не более чем гипотеза.
Я не хочу сказать, вернее — я не хочу думать, будто этой книгой он прощался. Он был всегда здоров. Представить себе больного Кагана невозможно. В нем был такой запас энергии, которого должно было хватить на вечность; Мика не мог иссякнуть, как не может иссякнуть скала. И он это знал, ну — если не знал, то чувствовал. К тому же, не в его стиле было письменно обнажать сокровенное. Где‑то в глубине не могла не присутствовать мысль об абсурдной конечности жизни, но ей не разрешено было прорваться в написанный текст, тут связи далекие, тонкие и опосредованные. Тема — да. Тема соотнесена с внутренним переживанием личного времени, как соотнесена была с подобным переживанием статья о времени, написанная четверть века назад. Но текст, я полагаю, оставался текстом отстраненного философского дискурса. Мысль о неизбежном уходе была сублимирована до исключения всего персонального.
По тому, что я читал, у меня снова возникло возражение. Я полагаю, Мика был неправ, когда считал, что мысль, пока она мыслится, принадлежит небытию, бытие ее начинается тогда, когда она выражена в каком‑либо чувственно данном материале, в слове — произнесенном или записанном. Он отказывал в бытии идеальному!
Теперь, когда он ушел в небытие, его мысли остались здесь, они есть — и мы их не только читаем, мы их думаем. И я здесь, на стороне бытия, думаю о нем, ушедшем на ту невозможную сторону. Думаю со скорбью и с ощущением катастрофы.
Рухнул угол дома.
* * *Тебе, Мика, всегда все удавалось. Ну, почти всегда. Но, помнишь, как однажды, желая поскорее управиться, ты совершил небольшую ошибку?
Я приехал в Питер, когда затеянный вами ремонт квартиры подходил к концу. Собственно, осталось сделать наборной пол из элегантной плитки в просторной туалетной комнате. Для этого дела ты быстро нанял где‑то на стройке двух девушек.
Вот где была ошибка. Работа у девиц не спорилась, зато в квартиру зачастили джентльмены, которых цветущие строительные работницы чем‑то привлекали. Вскоре работа и вовсе прекратилась, наружные двери не закрывались, атмосфера флирта сгущалась — не ремонт, а какое‑то сплошное отплытие на остров Киферу. Наконец, хозяйское терпение иссякло, вечное галантное празднество было прекращено, девки выгнаны. Ты снова отправился искать мастера — и привел солидного старичка. Он—το и выполнил честно всю работу. Уложив последнюю плитку, он сурово предупредил, что связующее должно высыхать постепенно и потому в течение двадцати четырех часов нога человека ступать в туалетную залу не смеет. Мы все отнеслись к предупреждению легко: Юля уходила на работу в Эрмитаж, а мы с тобой — в университет, где нас ожидало очередное ученое событие. Вернулись мы домой в хорошем настроении, продолжая беседу, навеянную университетскими дискуссиями, чем‑то перекусили, приняли по глотку вина… Словом, мы не сразу поняли, что находимся в ловушке. Юля все не появлялась, но не в том было дело. Почему‑то попроситься к соседям было нельзя. Ближайших, кажется, не было на месте, другие по разным причинам были табуированы. Дело принимало серьезный оборот. О том, чтобы нарушить запрет и зайти в ванную, ступив на свежие плитки, не могло быть и речи.
В критических ситуациях, подобных нашей, решения надо принимать быстро, просчитывать варианты некогда. Так мой стеснительный кузен — москвич однажды бросил даму неподалеку от Музея Ленина, кинулся в метро и умчался в Сокольники, где, он помнил, недалеко от станции находился общественный туалет.
Ты сказал: «Бежим к внуку». Я у внука Максима не бывал, но ты уверял, что это тут недалеко. Мы выбежали на Чайковского и понеслись, сохраняя достоинство. В полуквартале от дома, спиной к народу, лицом к газетной витрине стояла Юля и внимательно читала «Ленинградскую правду». Это было самое невероятное во всей истории. По дороге из Эрмитажа домой Юля остановилась и, не замечая ничего кругом, читает газету, вывешенную для народного чтения, — в такую минуту! Мы успели крикнуть ей, куда бежим, и устремились дальше. Между тем, бежать пришлось длинных три квартала, а там высокий четвертый этаж!
Погостив у Максима, мы неторопливо вернулись домой. Впереди нас ждала интересная ночь…
Нам с тобой досталось не лучшее место и время для встречи. Я мог оказаться твоим учеником в Ликее или Пестрой Стое, в Библиотеке или в Явне, в Сорбонне или Болонье, на худой конец — в Гейдельберге или Гарварде. Было бы здорово! Но я мог не стать твоим учеником вовсе, мог просвистеть мимо тебя во времени и пространстве. За тысячи миль и тысячи лет. Поэтому хорошо, что так. Как славно было с тобой дружить — здесь и сейчас! Спасибо судьбе.
2006
Триптих стриптизов
Кажется, еще весной, да, наверное весной, мне сообщили из Союза художников, что я включен в состав делегации, которая отправится в Варшаву по важному делу: там состоится Совместный Секретариат братских Союзов художников — советского и польского.
Миновало не так много времени — всего четверть века, но мало осталось понимающих, что скрывается за этими словами и какова могла быть цель такой странной акции. Я надеюсь, что дальнейшее изложение отчасти осветит церемониальный смысл Совместного Секретариата, а оставшееся непонятым останется таковым уже навсегда.
Но каким образом повествователь оказался участником столь высокого и, можно сказать, эзотерического действа?
Что было, то было: я был членом правления Союза советских художников. Но чего не было, того не было: я никогда не бывал секретарем ССХ. Лучшим доказательством может быть тот факт, что я никогда, ни разу, не был обслужен в секретарской комнате ресторана Союза художников, — там, в цокольном этаже чудесного особняка на Гоголевском бульваре. Ресторан был устроен так, что большую часть его пространства занимала зала для простых советских художников, а в глубине находилась особая зала поменьше, секретарская. Им было положено.