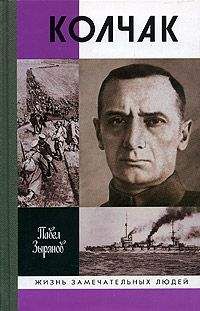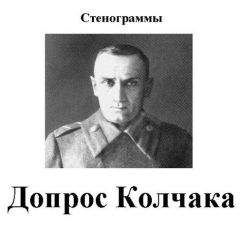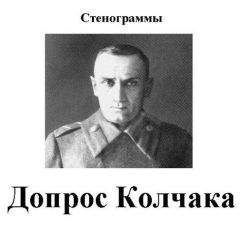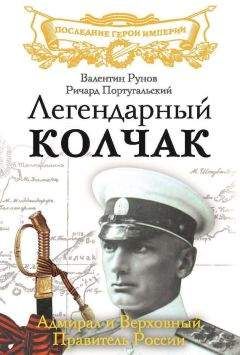Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
«… Выяснилась недостаточная первоначальная боеспособность дивизий, формировавшихся в глубоком тылу: “части после первых же боев перестали существовать как боевые единицы” [107].
Поэтому главное командование пришло к заключению о необходимости изменить существующую систему усиления действующих фронтов.
Решено было отправлять на них не отдельные войсковые части, а маршевые роты из состава дивизий внутреннего формирования, которые должны были вливаться в кадры уже обстрелянных на фронте частей.
Однако параллельно с этим способом питания и усиления фронтов решено было сохранить и прежний способ в виде отправки на фронт целых сформированных в тылу войсковых частей».
Несмотря на последнюю оговорку, весною 1919 года при обширной мобилизации «на Восточный фронт» даже партийные и профсоюзные организации, набиравшие наиболее надежный, с точки зрения большевицких руководителей, контингент, «не должны были увлекаться… формированием отдельных частей»: «мобилизованные коммунисты и добровольцы-рабочие должны были отправляться на фронт отдельными маршевыми ротами», чтобы быть включенными в состав уже воюющих частей. Тем не менее нельзя и говорить, будто командование РККА усвоило урок и склонилось к мысли о неэффективности крупномасштабных резервных формирований, – осенью 1919 года «в районе средней Волги и восточных губерний формируется особая запасная армия»: «в задачу этой армии входит создание резерва главнокомандующего как в виде готовых войсковых частей, так и в виде вполне подготовленных укомплектований».
Итак, в вопросе о подготовке стратегического резерва последовательность действий Верховного Правителя и его противников оказывается практически идентичной: повышенная «регулярность» при выборе методов подготовки; неудача при практическом применении резерва; разочарование, не затрагивающее, однако, принципов, к которым стремятся возвратиться при первом удобном случае. Упомянем здесь же, что и принципиальной разницы во внутренней организации и снабжении фронтовых частей нередко не наблюдалось, хотя с точки зрения общего обеспечения советские войска и имели значительное преимущество в виде доставшихся им с самого начала Гражданской войны основных запасов вооружения, обмундирования и снаряжения старой армии.
Однако бесхозяйственность быстро истощала эти запасы, а деятельность довольствующих органов кажется весьма далекой от совершенства для обеих противоборствующих сторон. Правда, генерал Степанов жаловался Верховному Правителю, «что им всегда посылается на фронт излишек амуниции против списка потребностей, но куда-то все это девается, и он никогда не может найти концов этих утрат» («А.В.Колчак объяснил, что, по его мнению, причину этого явления надо считать с одной стороны в нерасторопности распределительного аппарата на фронте, отчасти в распущенности солдат, которые продают чуть не открыто комплекты своей экипировки местному населению»), а барон Будберг возмущался результатами обследования «армейских и войсковых тыловых учреждений», которое «дало… открытия в виде 30 тысяч пар сапог в одном эшелоне, 20 тысяч пар суконных шаровар в другом, 29 тысяч пар белья в третьем ипр. ипр… все это попадало в руки разных начхозов, не в меру заботливых о будущих нуждах своих частей, и складывалось ими про запас на будущее время»; но и с противоположной стороны весною 1919 года были возможны такие рапорты по начальству:
«Довожу до сведения, красноармейцы категорически заявляют, что мы дальше действовать не можем, потому что мы, во-первых, голодные, во-вторых, босые, раздетые, нас насекомые заели, потому что мы с первого восстания нашей организации до сих пор не получали ничего.
Просим вас принять самые энергичные меры, если не будет смены, то мы самовольно бросаем указанные нам позиции и следуем в тыл».
Таким образом, бытующие нередко восторги уровнем советского военного строительства, которое задним числом ставится в пример и Деникину, и Колчаку, и Юденичу, представляются по меньшей мере преувеличенными, а утверждения вроде «красная организация победила белую импровизацию» – не более чем эффектными фразами. Возвращаясь же к вопросу о подготовке резервов, отметим, что фатальность допущенных ошибок для войск Верховного Правителя и, с другой стороны, неприятные, но не катастрофические результаты тех же ошибок для РККА кажется разумным объяснить «фактором времени», моментом, на который приходятся неудачи с одной и с другой стороны.
Красные испытывают их в относительно спокойный зимний период, а в момент наивысшего напряжения сил, весною 1919 года, – пусть вынужденно, но прибегают к более оптимальному способу комплектования, характерному, как мы уже упоминали, для армий Деникина и Юденича. В войсках же Верховного Правителя пополнения сгорают (деморализуются, сдаются или даже переходят к противнику) в ходе важнейших операций армейского или фронтового уровня, одни – той же весною 1919 года, другие – во второй половине лета, и их неудачи существенно влияют на ход всей борьбы. А поскольку речь уже идет о ведении войны в полном ее масштабе, а не только о подготовке укомплектований, – уместно сейчас задуматься о состоянии управления полевыми войсками и вооруженными силами в целом и в этих размышлениях обратиться к прецеденту, обрисованному в свое время Фошем (речь идет об управлении прусской армией) и представляющему, на наш взгляд, определенную параллель с тем, что происходило в Сибири в весенне-летнюю кампанию 1919 года.
Прусский Главнокомандующий (король Вильгельм), пишет Фош, «вообще говоря… в серьезных случаях воздерживается от личного вмешательства, а если вмешивается, то разве лишь для того, чтобы поддержать своим авторитетом предлагаемые ему решения; он не командует в военном значении этого слова, бросая мысль и обеспечивая ее осуществление… В данном случае его советником является начальник генерального штаба (имеется в виду Мольтке. – А.К.) – духовный руководитель всего предприятия, но лишенный звания, функций и средств, необходимых для подведения под свои планы надлежащей основы и для обеспечения их исполнения…
В результате такого распределения ролей главная квартира систематически руководит издали, вслепую и не считаясь с действительностью… На театре военных действий влияние Мольтке часто направлено на пустое место или в ложном направлении и приводит к бессилию. Успех вытекает не из четко задуманной им комбинации, точно осуществляемой войсками (наоборот, начальник генерального штаба иногда даже затрудняет достижение этого успеха), а сами войска добиваются победы там, где и когда он и не намечал ее».