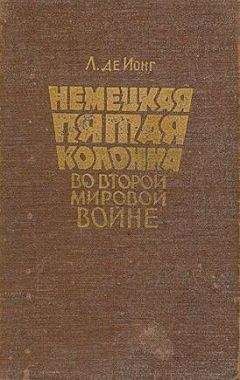Владимир Герлах - Изменник
Галанин слушал молча длинную проповедь Ратмана, когда он задохнувшись замолчал, выпил стакан водки, который сам налил и улыбнулся: «Слушайте, Ратман, какой же вы чудак! разве в такое время с вашими взглядами жить можно?» — «Как видите можно! жив же я! Ну хорошо, бросим об этом! Я ведь знаю, почему вы пришли! не только затем чтобы меня поздравить! Не беспокойтесь, ни Котляровой ни Минкевичу бояться нечего! Я не уничтожил их карточек, знаю, что вы человек недоверчивый и поэтому их сохранил. Вот они, вы можете их взять. Я повторяю вам еще раз: Я толстовец и не хочу крови и ее не будет! хотя бы это стоило моей жизни!» Галанин растроганно сжал ему руки: «…я перед вами преклоняюсь! Я хотел бы быть таким как вы! но не могу! Все-таки вы ошибаетесь: большевики во всяком случае будут разбиты первые, Германия, может быть, потом! И тогда милости просим к нам в освобожденную Россию. Я вас никому в обиду не дам и войду в ваш кружок толстовцев!»
***И было так как сказал Ратман: арестов больше не было! можно было вздохнуть спокойно, работать и в свободное время веселиться! Жили мирно и благословляли товарища белогвардейца и делились своими думками. Шульце сдох, со своими душегубами на мину наехал. Галанин так все хитро обдумал, что сам в белом кителе с переводчицей цветочки рвал, на солнце грелся пока Исаев Шульцу кончал! А Исаева, когда тот свое задание выполнил, тоже убить приказал! И не только его, но и всех, кто так или иначе был виноват там в смерти его любовницы, и тех, кто ее сам мучил и резал, Красникова с его жидами и папашу с веселыми, старосту Савку и Таисию! А когда был внезапно расстрелян по приказу Шубера полицейский Жердецкий, весь город ахнул и многие даже смеялись!
На другой день после разгрома партизанов и казни Иванова, приехал новый староста Озерного и привез на телеге десятилетнюю дочь Савки, Маруську, привез прямо в с/х комендатуру и пошел к Галанину вне очереди с жалобой на полицейского изнасиловавшего несовершеннолетнюю невинную девочку. Галанин, конечно, этим случаем воспользовался, вызвал доктора Минкевича и немецкого фельдшера с приказом осмотреть Маруську! Дело было ясное, Галанин пошел с удостоверением подписанным немецким и русским докторами к Шуберу, тот вызвал Шаландина. Шаландин собрал полицейских, среди которых Маруська сразу узнала своего мучителя. Суд был скорый и правый. Повели Жердецкого на Черную балку и там пустили в расход, неизвестно за что! Последнее звено, которого не хватало в длинной кровавой цепи было найдено Галаниным… ведь все знали и помнили, как Жердецкий, после своего неудачного ухаживания за Ниной Сабуриной, бегал по улицам и базару и чернил там непокорную Нину, отсюда и пошла ее травля, от которой она бежала в Озерное, где ее ждал с нетерпением Красников со своим ножиком!
Итак все, связанное с горем Галанина, было кончено на этой грешной земле и остальные, совсем мало виноватые, могли, наконец, успокоиться и не бояться мести белогвардейца. Даже в Озерном успокоились жены партизан, с которыми погуляли полицейские, примирились со своей участью, и обсуждая историю с Маруськой, не хотели нового кровопролития, простили своим насильникам, а некоторые в своем прощении пошли еще дальше, продолжали спать с ними и дальше уже по доброй воле и своему хотению. Дело было житейское молодое, весна становилась все горячей, играла кровь. Снова тихими вечерами гуляли парочки по берегу Сони, где зеленели и густели плохо вырубленные кусты, немцы, полицейские и их любовницы клялись друг другу в вечной любви, на зло войне и расовым законам, целовались и ласкались!
Целовалась и Шурка со Степой, возвращалась поздно домой и жаловалась рассматривая свою смуглую грудь: — «Опять мне синяк сделал ненасытный! Не буду больше с ним встречаться до свадьбы! все хочет больше. Опасно! самой хотеться начинает! Буду слушать Галанина!»
Ложась спать тушили свет, по молчаливому соглашению на ночь меняли свои места Галанин и Ваня. Ваня становился у изголовья, улыбающейся хитрой улыбкой Шурки, Галанин смотрел на молчаливую Веру. Плохо спала Вера на своей узкой девичьей кровати. Жарко было под грубой толстой простыней, мечтала о многом, сначала робко потом все смелее. Вставая по утрам после ухода Шурки уже не стеснялась темных насмешливых глаз, когда сбросив одеяло и простыню нарочно медлила одеваться, приучала себя к нему, чтобы не растеряться потом, когда наступит минута, которой она боялась и одновременно с нетерпением ждала… Боролась все-таки всеми своими ослабевшими силами и старалась рассуждать логически: с одной стороны спокойная интересная жизнь на благо родины рядом с Ваней, все ясно и просто, с другой вечное волнение, страх за будущее позорный и страшный конец с Алексеем, все грозно и туманно! Нужно было все-таки взять себя в руки, выбросить из головы несбыточные и безумные мечтания! Ведь она погибнет! и из чего? из за этих глаз и губ? Это было какое-то колдовство! и никто ей не помогал это наваждение рассеять! Наоборот!
Все в городе, даже те, которые от Галанина страдали особенно, все-таки его любили, плакали и любили, как, например, Аверьян! Остальные хвалили с чувством какого то восторженного удивления, немцы и русские, начиная с Шубера и Бондаренко! Теперь, после уничтожения партизан, в особенности! Весь успех этого кровавого дела приписывали ему, потому что это он принял на себя с горсточкой немцев весь удар врага. Все рассказал Степан. Он был героем, это было всем ясно, кроме него самого, который сам над собой смеялся. Что было совсем плохо и уничтожало Веру, было то, что веселые и евреи не были настоящими партизанами, а простыми жестокими бандитами, это знали все и она. Поэтому Галанин был прав, рискуя своей жизнью, чтобы их всех уничтожить. А жизнью своей он рисковал страшно, в этом убедила ее Шурка.
Шурка пришла вечером и принесла рваный грязный китель, торжествующе показывала Вере: «Смотри, куда пуля попала! Ведь чуток ниже и прямо в его горячее сердце, видишь как погон разорвало? Он дал мне чтобы я отдала в стирку, дал мыла и порошки всякие! думаю, сама постираю, мыло мне самой нужно! Нужно свои комбинации и рейтузы стирать, а то грязные, от Степы стыдно!» Вера с испугом рассматривала китель, дрожащими пальцами приглаживала разлохмаченный погон, нерешительно предложила: «Тебе и так много работы! По утрам рано встаешь, у меня больше времени! Я сама постираю завтра утром, останется мыло, верну. Только не говори ему, что я стирала; не хочу чтобы знал».
Так и сделали. Утром с любовью и стараньем мыла, терла, варила в светлой чистой древесной золе, отстирала все пятна, вывесила на солнце, чтобы еще лучше выбелило. Когда вечером высох, чистенько заштопала и выгладила, совсем как новый стал! До прихода Шурки в своей комнате, запершись на ключ, одела китель, погрузила свое пылающее лицо в отворот воротника, вдохнула знакомый запах и замерла в сладкой истоме! Рассудок молчал и все ее здоровое девичье тело радовалось и рвалось к нему, единственному в мире. В ней просыпалась женщина, как просыпалась вместе с весной теплая дрожащая земля, где уже разбухали и лопались, пускали корни и стебли, брошенные в нее зерна ржи!