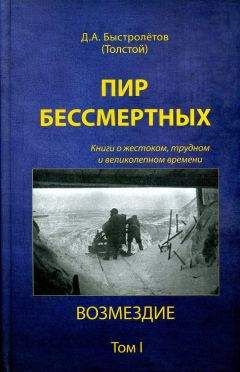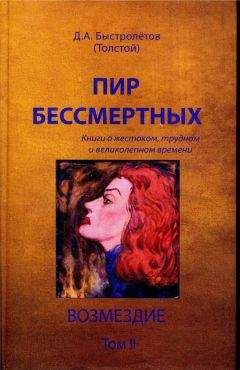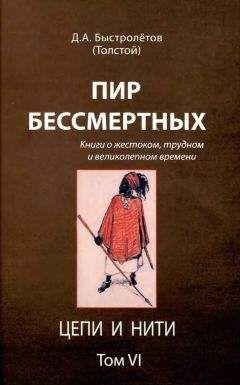Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 3
— Я был советским разведчиком.
— Эх, мовчав стильки рокив… Видать, що разведчик — у вас це положено. Но я уж давно догадався. Ты — интеллект.
Я расхохотался: еще бы!
— После Неизвестного стоит Студент: он лучше, никого не убивал и не грабил. Это просто мещанин, Остап Порфирьевич, понимаете? Ограниченный себялюбец. Лагерь его ничему не научил. Студент и на воле будет таким же мелким подлецом. Будет стыдиться лагеря. Студенту я противопоставляю доблестного бухгалтера Рубинштейна, пожертвовавшего собой для других, и Андрея Рыбакова — человека, который, умирая от голода, писал стихи и смотрел вперед поверх физических и моральных испытаний. У долинских был наметанный глаз и ясные указания сверху: нас заподозрили в несогласии с их порядками, и это делает нам честь. Конечно, многие попали сюда по ошибке, они были переоценены. Такие здесь страдали, так и не поняв смысла своей судьбы. Ну, что ж: им слава и честь за муки, за труд на морозе в дырявых бушлатах. Но есть среди нас люди, осмыслившие все до конца. Люди с большой буквы. Их сила, гордость и слава совсем не в том, что на морозе они работали в дырявых бушлатах, а в том, что, работая на морозе в дырявых бушлатах, они думали о Родине и искали своего особого способа выражения любви к ней — в труде через внутреннее добровольное включение во всенародную стройку!
Эта повесть посвящается советским людям — твердым, верящим и преданным, стоящим за правду до конца. Повесть подходит к своему естественному концу, и рассказчик, как принято, должен закончить ее особенно приподнято, ярко, патетически, заготовив для длинной цепи скорбных происшествий особенно трагический конец. В другие годы это было легко сделать, и последними строками можно было бы потрясти читателя. Но в том-то и дело, что подоспел пятьдесят третий год и все последующие перемены. Не будь их — не было бы и этой повести: действующие лица ее, включая самого рассказчика, так и сложили бы головы в загонах из ржавой колючей проволоки, к такой повести нашлась бы достаточно эффектная концовка, только досказывать ее пришлось бы кому-то другому… Но перемены настали и изменили весь стиль лагерной жизни, они придали особый характер и выходу Сидоренко на свободу в конце зимы пятьдесят третего года — сделали его деловым, даже бытовым. Пафос как раз и сказался в такой уверенности и спокойствии. Таким образом, рассказ о людях превратился в картину смены двух этапов нашей недавней истории, когда временное засилье кривды сменилось окончательным торжеством правды. И разве может что-нибудь быть выше и прекраснее?
Величие и великолепие нашего времени — в его обыденной простоте…
В тот морозный день после развода освобождаемых погрузили на трое больших саней. Провожать вышло только несколько человек — массовое освобождение стало явлением обычным. Перед открытыми воротами я стоял в толпе людей, занятых делом. Сидоренко сидел на первых санях, его тощие ноги торчали из-под одеяла: его посадили в сани для счета, ехать было недалеко — через невидимую роковую черту у ворот, а там уже ждали свои.
— Дядя доктор! — кричала с воли Любаша через открытые ворота. — Весной папа мне купит велосипед!
— Одеял даю по пяти на каждые сани! Слышите, возчики? По пяти! — волнуется каптер. — Прошлый раз одно замотали, обормоты! — возчики смеются, хлопают валенком о валенок и рукавицей о рукавицу, трут носы: сегодня очень холодно.
— Сторонись! Сторонись! — это выезжает на свинарник наш завтрак: из открытых бочек сладко пахнет горячей кашей и поджаренным луком. — Дайте проехать!
— Ну, трогайтесь же наконец! — кричит надзиратель возчикам и машет инвалидам рукой: — Счастливого, граждане! Поехали!
Но из-за зоны наезжает вереница пустых саней, рядом с криком бегут бесконвойные грузчики: у нас в зоне начали разбирать опустевшие бараки.
— Тьфу, черт, толкучка какая! — сердится надзиратель. — Не вахта, а базар! Порядку — ни грамма!
Надюша, Таня и Любаша стоят, обнявшись, и поют здравицу. Врач Сидоренко кричит отцу:
— Папочка, а почему ты не одел носков? У тебя ботинки одеты на голые ноги! Ведь носки ты хранил специально для этого дня? Ты их потерял?
Сидоренко дрожащими руками шарит по бушлату, достает из кармана гимнастерки деревянную ложку, потом пару носков.
— Ось, бачишь, Антанта, це ще те самые, що жинка звя-зала! — он ласкает их полными слез глазами и прячет обратно в нагрудный карман. — Воны у мене на самом сердце хранятся. Ось що. А то — на ноги! Хиба ж це можно?
— Так не клади же обратно, папочка! Ох, беда со стариком: старые — как малые, — жалуется Тане Надежда Остаповна.
— Брось ложку, гражданин старик, а то с хода вернешься обратно в лагерь! Поломай ее у ворот — это старая примета! — советует Остапу Порфирьевичу возчик, хлопая себя рукавицами по бедрам. — Ну и морозец! Как хватил, а?
— Для чего ломать ложку? — бурчит Сидоренко, пряча ложку обратно в карман на груди. — Ложка — память о хороших людях, хай вона живе со мной. Лагеря ломаются начисто, а ты кажешь — ломай ложку! Эх, чудило!
Но едва возчики трогают коней, как встает новая помеха, на этот раз серьезная: колонну заключенных под сильным конвоем и с собаками выводят пешком тоже на вокзал, но, надо полагать, к другим вагонам: это отобранные комиссией особо тяжкие военные преступники, их пересылают куда-то в другой лагерь для таких же, как они сами. Опустив головы, как прибитые, шелудивые волки, проходят укутанные люди, бросая в стороны косые, полные ненависти взгляды. Сидоренко кричит мне из саней:
— Бачив? Повели полицая Чубаря та Яна Яновича! Узнал? Як то давно було, як давно!
«Нет, не удался новый порядок на земле, — радостно думаю я и невольно опять вспоминаю друзей и врагов этих удивительных лет. — Жизнь теперь нас разделит и одних повезет к родным очагам под теплыми одеялами, а других пешком погонит по морозу в сугубо недобрые места. Сидоренко и Неизвестный — оба уйдут отсюда, но в разные стороны. Победит на нашей земле только человечность!»
Сани трогаются.
— Ура! Ура!! Ура!!! — звонко кричат за зоной знакомые молодые голоса. Брови Сидоренко насупливаются, на щеках играют желваки.
— До скорого, Антанта!
Он закрывает лицо ладонями и отворачивается.
Медленно, со скрипом ворота закрываются… По пазам ползет тяжелый длинный засов.
Ничего! Скоро ворота снимут, а засов вместе с другим ржавым ломом сдадут на переплав!
Двадцать второго февраля пятьдесят шестого года мне вручили казенного вида пакет. В нем я нашел узенький листок сероватой бумаги. Избранного извещали, что на восемнадцатом году со дня восхождения на родной эшафот его дело пересмотрено и приговор отменен за отсутствием состава преступления.