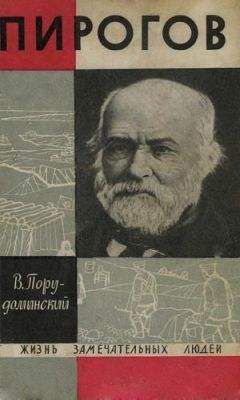Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача
Иноземцев и с внешней стороны был гораздо представительнее меня. Высокий и довольно ловкий брюнет, с черными блестящими глазами, с безукоризненными баками, одетый всегда чисто и с некоторою пре — тензиею на элегантность, Иноземцев легко делался вхожим в разные общества и везде умел заслужить репутацию любезного и милого человека, доброго товарища и отличного парня.
Немудрено, что я начал ему завидовать. Это скверное чувство особливо выражалось в моем дневнике, который я некоторое время вел тогда очень аккуратно.
Сверх зависти меня возмутило против Иноземцева и еще одно: однажды, я жил тогда еще у Мойера, я простудился и заболел. Мойер приходит навестить меня и намекает мне довольно ясно, что я порчу себя питьем водки; после такого намека, я, взволнованный и еще больной, являюсь к Екатерине Афанасьевне Протасовой и говорю, что я не могу долее оставаться в их доме, так как я заподозрен в пьянстве.
Старушка ахнула: «Откуда это, батюшка, такое взял?» Я рассказал. Потом вышло, что Иноземцев стороною намекнул что — то, где — то, как — то, что я склонен к злоупотреблению спиртными напитками.
Действительно, Иноземцев видел меня раза два навеселе вместе с Шуманским, от которого я в первый раз и узнал вкус водки. Долго я не мог простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили с ним в течение 4–х слишком лет вместе в одной (довольно просторной) комнате в клинике; но наши лета, взгляды, вкусы, занятия, отношения к товарищам, профессорам и другим лицам были так различны, что, кроме одного помещения и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общего.
Меня досаждало еще то, что вечером к Иноземцеву приходили, по крайней мере раз или два в неделю, в гости три или четыре товарища из наших или и других русских, которые все знакомы были коротко с Иноземцевым. При чаепитии, курении табака (которого я тогда не терпел) начиналась игра в вист, продолжавшаяся за полночь и мешавшая мне читать или писать.
Я должен покаяться, вспоминая об Иноземцеве. Я теперь и сам бы себе не поверил или, лучше, не желал бы верить; но что было, то было. Я нередко, по недостатку денег к концу месяца, оставался день или два без сахара, и вот в один из таких дней меня черт попутал взять тайком три, четыре куска сахара из жестянки Иноземцева. Он как — то заметил это, и запер жестянку. О, позор! Дорого бы я дал, чтобы это не было былью. Кстати, повинюсь еще и в воровстве с книгами. Я во всю мою жизнь утаил, т. е., взяв, не отдал три книги; а потом, когда хотел их возвратить, то было некому, или я от стыда откладывал все и откладывал возвращение. Потом большая часть моей библиотеки поступила в пользу студенческой библиотеки [#213].
Во время нашего пребывания в Дерпте университет пользовался большою славою в России. И действительно, большая часть кафедр была замещена отличными людьми, с знаменитым ректором Эверсом (историк) во главе: Струве (астроном), Ледебур, Паррот (сын академика), Ратке (физиолог), Клоссиус (юрист), Эшшольц (зоолог); между медиками отличались необыкновенною начитанностью и ученостью
проф[ессор] Эрдман прежде бывший в Казани, но изгнанный оттуда вместе с профессором математики Бартельсом [#214] (сотоварищем короля Луи — Филиппа, когда они оба были учителями в Швейцарии). Изгнание немецких ученых из Казанского университета было совершено погромом Магницкого. Во время пребывания профессорского института в Дерпте присылались молодые русские люди и из других ведомств; от Академии наук были присланы Загорский (физиолог) и Шерер[#215] (химик) как элевы [#216]. Профессору астрономии Струве прислано было человек 10 штабных, или свитских, и морских офицеров для занятий при обсерватории.
Учреждение императрицы Марии прислало из воспитательного дома человек 6 или 7; наконец, и частные лица приезжали для образования или так, понаслышке, по моде; так, в наше время приехали учиться Карамзины — три брата, гр. Соллогуб, Муравьев, графы Витгенштейны (два брата), Тутолмин, Матвеев и еще до нас прибыл певец студенческих попоек и кутежей — Языков и другие.
Большая часть из них не окончили университетского курса, но почти все носили студенческий костюм: длинные сапоги — Stiefeln, Kragen, т. е. длинные воротники от шинелей вместо плащей, маленькие фуражки на голове.
Мундир студенческий в Дерпте, может быть, также служил приманкою; это был не то, что паскудный мундир того времени в других русских университетах; у дерптского студента воротник на мундире горел золотом; это был воротник черный, бархатный (на синем мундире) с вышитыми золотом дубовыми ветвями, занимавшими большую половину воротника. И на балах, и в театре мундир этот производил эффект.
Когда император Николай проезжал чрез Дерпт во время турецкой кампании, то ему приготовлена была почетная стража из студентов; одетые в эти свои мундиры, белые штаны в натяжку, ботфорты, рослые и красивые студенты — стражники обратили внимание на себя самого Николая, и так как он ничего не заявил против этой обмундировки, то она и признавалась законною.
За исключением нас, присланных в Дерпт уже по окончании курса в русских университетах, и двух или трех других русских, всем прочим пребывание в Дерпте не пошло впрок. Карамзины и Соллогуб едва ли вынесли что — нибудь из дерптской научной жизни, кроме знакомства с разными студенческими обычаями; другие, как например, Языков, воспитанники из учреждений императрицы Марии и приезжие из Москвы и Петербурга полурусские и полунемцы просто спивались с кругу и уезжали чрез несколько лет в весьма плохом виде; только двое из них, Федоров Вас[илий] Фед[орович] и Кантемиров, вышли было в люди, но ненадолго. Федоров, весьма дельный астроном — наблюдатель, сделал экспедицию с Парротом на Арарат, потом в Сибирь, потом сделался профессором астрономии в Киеве и ректором университета, но не оставил привычки попивать и скоро умер, еще далеко не старый; Кантемиров вышел доктором медицины, был за границею, но до крайности бескровный и худосочный, также скоро умер еще в молодых летах.
В Дерпте русская поговорка приходилась наоборот. В России говорят: «что русскому здорово, то немцу — смерть»; а в Дерпте надо было, наоборот, сознаться: «что немцу здорово, то русскому — смерть». Немецкие студенты кутили, вливали в себя пиво, как в бездонную бочку, дрались на дуэлях, целые годы иногда не брали книги в руки, но потом как будто перерождались, начинали работать так же прилежно, как прежде бражничали, и оканчивали блестящим образом свою университетскую карьеру.
Мы, русские, из профессорского института, professeurembryonen (Профессорские зародыши (нем.)), как нас звали немецкие студенты, мы все, слава Богу, уцелели; но мы не сходились ни с одним студенческим кружком, не участвовали ни в коммершах (Пирушках (нем.)), ни в других студенческих препровождениях времени; и я, например, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имел никакой охоты знакомиться с студенческим бытом в Дерпте. Только два раза я из любопытства съездил на коммерш, и то впоследствии, по окончании курса.