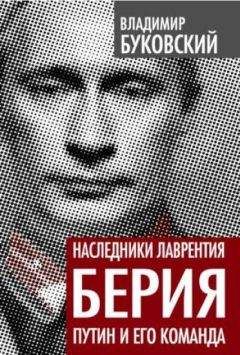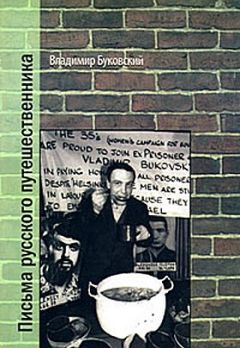Владимир Буковский - И возвращается ветер...
Всё новые и новые люди присоединяются к нам. Кто на один день, кто на неделю — в зависимости от здоровья. Другие просто отправляют протесты.
Начальство в полной растерянности. Замполит кричит, что он введет в зону войска. Кум грозится всех судить за дезорганизацию работы лагеря. В то же самое время вызывают всех по одиночке, обещают разрешить посылку из дому и даже внеочередное свидание — если прекратишь голодовку. Ничего не помогает. В карцерах нет больше мест, все забито, сажать некуда.
В спешном порядке созвали так называемый «совет коллектива», состоящий из полицаев. Но даже они отказываются осудить нас. Это было уже последней каплей. А по всем радиостанциям, вещающим на Советский Союз, передавали нашу «Хронику голодовки», «Хронику Архипелага ГУЛаг». И надзиратели, те самые, специально подобранные, что получали сразу погоны прапорщиков за секретность, рассказывали нам шепотом подробности радиопередач. Разводили руками:
— И откуда они там все знают?
Пермский эксперимент провалился.
Я не видел конца этой эпопеи — 27 мая, на 15-й день голодовки, меня увезли во Владимир. Так и не удалось мне в ту весну наесться досыта — то ПКТ, то голодовка, потом месяц пониженного во Владимире. Черт с ним! Были бы кости — мясо нарастет.
И потянулись дни во Владимире, вечная режимная война, голодовки, карцера — эти бесконечные граммы, градусы и сантиметры, в которых посторонний человек никогда не разберется. Монотонное, однообразное погружение на дно, от которого можно спастись только ежедневными напряженными занятиями.
Невеселые доходили вести с воли. То, чего не удалось властям достигнуть арестами, шантажом, системой заложников и даже психиатрическими тюрьмами, сделала эмиграция. Навсегда исчезали, как в могилу, люди, с которыми была связана вся моя жизнь. Одни уезжали сами, потеряв терпение, других выгоняли, но результат был тот же самый. Пусто становилось в Москве.
Они увозили на Запад по частям мою жизнь, мои воспоминания, и я сам уже затруднялся сказать, где нахожусь.
Приходил капитан Дойников, нес свою бесконечную околесицу. Но все чаще, все настойчивей заговаривал о загранице. Ему неловко было исполнять эту роль: ведь рядом со мной в камере сидели люди, которых он должен был «воспитывать» в совсем ином духе — доказывать, как хорошо жить на советской земле. Он смущенно топтался на месте, противоречил сам себе и порою договаривался до совершенно антисоветских утверждений. Сокамерники мои только диву давались.
Нет, я не хотел уезжать. Евреи едут в Израиль, немцы — в Германию. Это их право, как право каждого человека — ехать, куда ему нравится. Но куда же бежать нам, русским? Ведь другой России нет. И почему, наконец, должны уезжать мы? Пусть эмигрирует Брежнев с компанией.
Оттого-то, хоть сидеть мне оставалось уже совсем немного — чуть больше года, если не считать ссылки, получалось, что вся жизнь расписана у меня вперед. Два раза я еще мог успеть попасть на волю, а умирать приходилось опять на тюрьму.
И не заметил, как ночь прошла. Соседи мои спали, укрывшись пальто поверх одеяла. В камере было сизо от дыма: всю ночь я курил, не переставая. И чего разволновался, дурак? Подумаешь, привезли в Лефортово, костюм дали. Ну и что? Сейчас, наверно, допросы начнутся, а я ночь не спал, как идиот. Может, еще успею хоть часок прихватить? Но, будто подслушав меня, надзиратель открыл кормушку: — Падъ-ем!
Зимой не отличишь — что утро, что ночь. За окном черно. Пока умывались да завтракали, чуть-чуть посветлело. — На прогулочку соберитесь!
Чтой-то рано стали здесь на прогулку водить. Никогда так прежде не было. Соседи мои зевают — не выспались.
— Хочешь, иди, — говорят. — Мы не пойдем. Лучше поспать.
Я и сам бы не прочь покемарить — кто знает, что впереди. Но уже открылась дверь. — Готовы? Выходите!
— Мне бы пальтишко какое-нибудь, — говорю. — Телогрейку-то забрали. Замерзну на прогулке в одном костюме.
— Сейчас, сейчас, — засуетился корпусной, — пойдемте со мной, будет вам пальтишко.
И повел меня куда-то через баню, опять к боксам. — Вот и пальтишко.
На столе в боксике лежало новое пальто, шляпа, еще что-то — не разглядеть. А корпусной суетится, аж извивается весь, рожа у него такая приторная. И чего он так меня обхаживает?
Только надел я пальто, еще и застегнуться не успел — щелк! Мать честная, наручники! Да и защелкнул он мне их не спереди, а сзади. Бить, что ли, будут? Я инстинктивно дернулся, отскочил, чтоб он не мог ударить. Так всегда делали надзиратели, когда били, — надевали американские наручники, которые затягиваются еще крепче от малейшего движения рук, и с размаху били по ним ногой, чтобы затянулись до предела. Такая боль — на крик кричат! Сопротивляться человек не может — что хочешь, с ним делай.
— Тихо, тихо… Ничего, это ничего, это так нужно…
На редкость подлая морда! А он, заискивающе улыбаясь, напяливал на меня шляпу, галстук, застегивал пальто.
— Ничего, ничего… Это так нужно. Вот как хорошо, как славно.
Если б не наручники, ни за что не дал бы нацепить на себя всю эту гадость — отродясь не носил.
У крыльца стоял вчерашний микроавтобус. Окна зашторены. Чуть в стороне — милицейская машина. Те же чекисты, что и вчера, уселись вокруг. Ехали довольно долго, часа полтора. Опять впереди милицейская машина мелькала светом, расчищала путь. И уж совсем не мог я сообразить — куда? Особенно когда выехали за пределы Москвы.
— Наручники не давят? — спрашивал время от времени кто-нибудь из чекистов. — Если затянутся, скажите.
Жутко неудобно сидеть, когда руки сзади. Наконец вроде бы приехали. Снаружи совсем светло — наверно, часов девять. Чекисты то вылезали из машины, то снова приходили погреться. Кого-то ждали. Подъезжали и отъезжали машины. Слышались голоса, гул моторов. Аэродром, что ли?
— Так. Сейчас мы вас посадим в самолет. Вместе с вами будут лететь ваша мать, сестра и племянник.
И странно: это известие совсем не тронуло меня. Словно я в глубине души давно знал, что будет именно так. Знал и скрывал от самого себя — обмануться не хотел. А собственно, чем еще могло кончиться — не того ли они и добивались все время? Только вот странно — никаких бумаг, указов не объявляют. Я же заключенный — впереди почти шесть лет. Непривычно после тюрьмы, что можно поглядеть по сторонам. Оглянуться и увидеть что-то новое. Но и не запоминается ничего — глаза отвыкли. С трудом вскарабкался по лестнице в самолет — уж очень неудобно, когда руки сзади. Оглянулся — какие-то автомобили, лесок, заснеженное поле. Аэродром незнакомый — определенно не Шереметьево (только потом выяснилось, что это был военный аэродром).