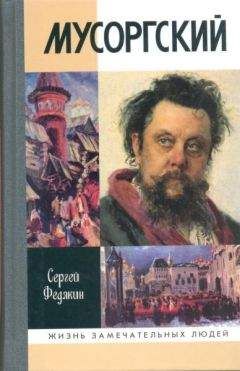Скрябин - Федякин Сергей Романович
Странные две жизни одного человека, которые трудно состыковать. Если бы Ольга Ивановна описала только свои впечатления, ее мемуары вряд ли были бы столь убедительны. Можно было бы посчитать, что многочисленные и однообразные дрязги, ею увиденные, — это лишь обратная сторона нескончаемой личной обиды. Но в это повествование вторгаются другие люди со своими впечатлениями.
Главным образом — женщины-«соглядатаи». Все они смотрят на Татьяну Федоровну глазами непримиримых.
Вот Ляля Ш. «делится впечатлениями», рассказывает с восторгом, как Скрябина лишают отдыха перед концертом:
— Возвращаюсь уже в седьмом часу — у них целая история. Александр Николаевич сердится, кричит, кипятится, спор страшный! «Мадам» требует и настаивает, чтобы Александр Николаевич сам ввел ее в зал и сидел с ней все время до своего выхода, чтобы вся публика, видите ли, поняла, что вот это и есть жена Скрябина (а иначе, конечно, никто бы такую фитюльку не заметил!). Александр Николаевич спорил, доказывал, что это для него мученье, что это может повлиять на его исполнение, — ничего! Как в стену горох!..
Вот — другая «свидетельница», неназванная:
— Она его в могилу уложит. Она ему дышать не дает свободно. Теперь она его изводит с этим разводом: она черт знает что про Веру рассказывает, чтобы ее очернить, за то, что Вера не дает развода. Она изводит несчастного Александра Николаевича, он на себя не стал похож. Чем он-то виноват, что Вера не дает развода, что он может сделать! Как ее заставишь? Да и как Татьяна смеет на что-нибудь претендовать? Ведь она шла на это, раз вешалась сама на шею человеку женатому, да еще у которого трое детей…
Вот — исповедь жены пианиста Пабста:
— Я иногда просто не знаю, как к нему подойти: у него какое-то такое презрение, что я чувствую себя перед ним ничтожнейшей мошкой и даже не знаю, о чем с ним говорить! Ты подумай, милая! И я только один раз видела прежнего «милейшего» и могла с ним говорить, как с человеком, а не с богом Олимпа! Это я видела его на Зубовском бульваре: он сидел один и был грустный, грустный и такой утомленный, бледный, мне стало его так жаль: ему не сладкая жизнь с этой Татьяной; и еще такая семья огромная на шее и денег нет! Сколько он работает, бедный! Вчера я Мозера видела, тоже говорит, что Александру Николаевичу очень тяжело живется. Она ревнует его ко всем, ко всему прошлому! Подумай только, что она хотела уничтожить все его произведения, которые создал до нее (с Верой Ивановной и раньше), а когда она узнала, какой успех имеет Вера Ивановна в своих концертах и что она исполняет исключительно произведения Александра Николаевича, — такая была история при Мозере (и еще кто-то был): она обвиняла милейшего, что он давно должен был уничтожить свой концерт, который Вера Ивановна, кстати сказать, великолепно исполняет, и еще какие-то свои произведения, что это детский лепет, что все это надо отовсюду скупить и сжечь, что настоящим композитором он стал только при ней и т. п. Я даже думала, не с ума ли она сходит.
Сходство мемуаристов можно уловить лишь в первом, брошенном Сабанеевым на еще не известную ему женщину взгляде, когда он заметит ее «узкие, злые губы». Но когда вчитываешься в свидетельство Леонида Леонидовича: «Враги преследовали бедную женщину своими инсинуациями», а после — в словах «оповестительниц» Ольги Ивановны, легко узнаешь этих врагов. Понимаешь естественную «неприветливость» Татьяны Федоровны с теми, кто был ей незнаком или неприятен; понимаешь, как мучительно было ей чувствовать спиной насмешливые взоры и ловить нашептывания злых языков; понимаешь, почему она бывает «остра» в репликах (временами — «ядовита»), и прежде всего — в отношении женщин.
Есть, впрочем, и другое общее ощущение Ольги Ивановны и Леонида Леонидовича. Сабанеев тоже заметит небезупречный вкус Татьяны Федоровны;
«Квартира их была велика и просторна, но странным образом не выказывала самостоятельного художественного вкуса. Эти декадентские стульчики рыжего дерева, эта ужасно неудобная гостиная мебель с подпирающими поясницу спинками, на которой почти никто и не сидел, — все это носило отпечаток какого-то нейтрального «буржуазного» вкуса; это была средняя обстановка бюргера, но не художника, да еще с такой оригинальной психикой. Мне всегда казалось, что в деле известного «мещанизирования» обстановки некоторая доля вины падала на Татьяну Федоровну — она, по-видимому, любила, грешным делом, внешность, буржуазный лоск, и оба они не имели настоящего развитого вкуса на эту внешность».
«Дурноватый» вкус подруги Скрябина выражался не только в обстановке, но и в некоторой «слащавости» и чрезмерной литературности речи, когда ей хотелось выразить что-либо исключительное (хотя бы даже вспомнить о первых годах совместной жизни с Александром Николаевичем). Сабанеев нисколько не сомневался, что некоторая литературная вычурность Скрябина — отражение воздействия на него Татьяны Федоровны и ее брата Бориса Федоровича, человека несомненно образованного, но образованного как-то сумбурно и столь странно выражающего свои мысли.
Собственно, эта черта только и остается при сличении мемуаров. С той оговоркой, что и Ольга Ивановна склонна была к избыточной патетике не менее Татьяны Федоровны. Один вполне «мелодраматический» эпизод ее воспоминаний — пусть и косвенно — объясняет очень многое.
Скрябин дома, среди знакомых. Он играет знаменитый ре-диез минорный этюд из опуса 8. Татьяну Федоровну спрашивают: что это? Она не может ничего сказать. Когда сама слышит название — с лихорадочным восторгом поддакивает.
«Как могло случиться, — восклицает Ольга Ивановна, — что она не сумела ответить на заданный ей вопрос?! Неужели она могла не знать или забыть, или спутать с чем-нибудь другим это единственное, не имеющее себе равного, произведение Александра Николаевича?!»
…Последняя фраза. С виду — столь восторженная, полная обожания, любви к творчеству Скрябина. Она-то и выдает тайные чувства мемуаристки. Даже если предположить, что Александр Николаевич действительно жил в состоянии постоянного «волевого давления», «террора» Татьяны Федоровны, то все-таки из слов «единственное, не имеющее себе равного» становится понятным, почему Монигетти не могли стать «спасением» для композитора, почему он медленно «отходил» от них. Для Ольги Ивановны знаменитый «революционный» этюд Скрябина — высшее, что он когда-либо написал. Для нее «поздний» Скрябин — уже «не тот», в нем много надуманного. И — много «Татьяны Федоровны».
Супруге композитора неприятны те из прежних друзей, кто к ней относится с предубеждением. Рядом с этими людьми она начинает нервничать, часто они и становятся причиной назревающих скандалов. Потому так часто нелюбимая ею Ольга Ивановна лицезреет именно самую «неприглядную» сторону жизни композитора. Естественна и ее ревность к прошлому Александра Николаевича. Ей часто хватало выдержки на многое. Она могла с мрачным достоинством пережить даже презрение тех, кого она сама готова была презирать. Не хватало ей лишь широты и величия души, как и Вере Ивановне. И, в отличие от последней, не всегда она готова была и к самоотверженности.
Скрябину же более всего нужно сочувствие его позднему творчеству. Все прежнее — дорого лишь как повод для воспоминаний либо как «неизбежная», нужная для публики часть его концертной программы. Потому рядом с тем обожанием «позднего» Скрябина, которым полна Татьяна Федоровна, меркнут и скандалы, и нелепые ее домашние поручения вроде покупки детских туфелек. Характер жены был «труден». И сам он — конечно, лишь ребенок в руках женщины, склонной к истерике или интриге. И все-таки она — его единомышленник. И потому он может смело отдаваться главному делу жизни — сочинительству. Здесь не только главное дело жизни. Похоже — здесь и корень его предчувствий.
* * *
Неожиданные движения души в последние годы. Странные симптомы. Когда всматриваешься в каждое событие — вроде бы никаких особых предвестий. Когда озираешь все вместе…