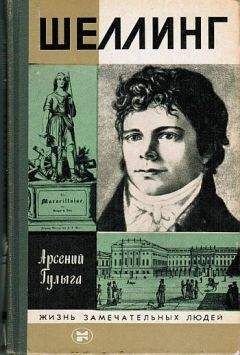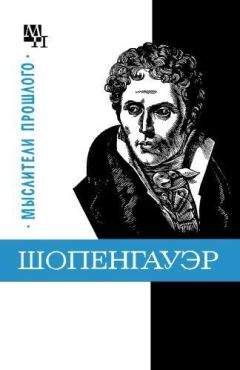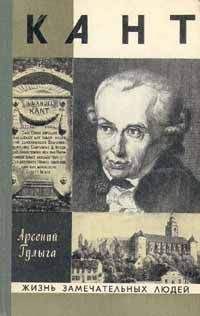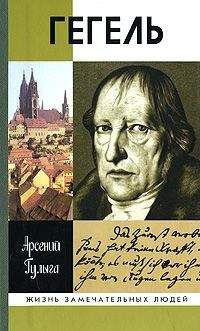Арсений Гулыга - Шопенгауэр
Но Соловьев отводит от Шопенгауэра свое собственное положение о спекулятивном характере его мысли: Шопенгауэр «олицетворяет свою метафизическую волю и говорит о ней как о субъекте, действующем и страдающем»; и интеллект, представляющий этот мир, является лишь произведением воли к жизни и потому изначально имеет практический, а не теоретический характер. Здесь нет места единому уму и даже единой воле, речь идет о множественности индивидов, существующих реально; все это противоречит шопенгауэровскому учению о призрачности индивидуального бытия (напомним, что на самом деле Шопенгауэр утверждал призрачность познания истинной сущности явленного мира и в нем — индивидуального бытия).
Второй главный алогизм Шопенгауэра, по мнению Соловьева, состоит в утверждении о страдании воли в мире явлений. Это верно, когда речь идет о страдающем субъекте, однако выражение «воля вообще страдает» — не более чем риторическая фигура. То же можно сказать и о самоотрицании воли; будучи самоутверждением, волей к жизни, как может она отрицать себя, перестать хотеть, то есть утратить свою природу? Перестать хотеть может только хотящий, но не само его хотение.
Критикует Соловьев и эгоистический антропологический принцип Шопенгауэра, ибо тот признает в действительном мире самоутверждение отдельного лица: непосредственное значение имеет лишь его собственное счастье, благо же других относительно, здесь нет места для стремления к общему благу, отсутствуют объективные начала нравственности.
Соловьев не принимает и учение Шопенгауэра о вечных идеях, которые предстают, по его мнению, лишь как ничего не значащие метафоры либо вступают в противоречие с основным началом его философии, поскольку не объясняется их возможное отношение как к метафизической воле, так и к субъективному представлению. В философии Шопенгауэра, следовательно, имеется общая со всей западной философией формальная ограниченность: стремление к «гипостазированию относительных, отвлеченных понятий» (54. Т. 2. С. 84).
В результате, «после того как философский рационализм отверг объективную реальность в теории, отвергаются теперь в практике всякие объективные начала нравственности. Единственным жизненным началом становится исключительное самоутверждение отдельного Я; Я для себя — Бог» (там же. С. 97). Но это «для себя» превращает мое божество в злую иронию. Соловьев подтверждает эту мысль четверостишием, которое, возможно, принадлежит ему самому:
Великий Бог в груди моей сокрыт;
Он душу мне волнует и тревожит —
Внутри меня всецело он царит,
Но в мире внешнем ничего не может.
И все же свое исследование Соловьев заключает в пользу Шопенгауэра. «Новейшая западная философия, — пишет он, имея в виду не только Шопенгауэра, но и Э. Гартмана, — с логическим совершенством западной формы стремится соединить полноту духовных созерцаний Востока. Опираясь, с одной стороны, на данные положительной науки, эта философия, с другой стороны, подает руку религии. Осуществление этого универсального синтеза науки, философии и религии… должно быть высшей целью и последним результатом умственного развития…» (54. Т. 2. С. 122). Рационализм и эмпиризм, отрешившись от метафизически ориентированной философии, привели к кризису западную философию. Главную заслугу Шопенгауэра Соловьев видит в минимальном теоретизировании и обосновании практического сознания и этики. Огромное значение имеет учение о тождестве явлений и сущностных основ мира с познающим субъектом. Эта книга Соловьева положила начало взрывоподобному распространению философии Шопенгауэра в России.
Проблема интеграции воли и представления отражается и в поэтическом творчестве Соловьева. В «Прометее» (1874) ложь и зло как призраки незрелого, туманного видения, как тяжелый сон — эти феномены шопенгауэровской мировой воли — исчезают, когда в вечном утре брезжит новая жизнь: все во всем и все в одном, то есть в новом синтезе.
«Чтения о богочеловечестве» (1878) развивают идеи первой работы. Шопенгауэр почти не упоминается, его идеи светятся тем не менее в раскрытии иного метафизического принципа, в основе которого лежат любовь, божество, абсолют. Божественный принцип — активная воля, которой противостоит воля пассивная, побуждаемая извне воля человека (феноменальный характер, проявляющий себя так же, как у Шопенгауэра). Задача состоит в том, чтобы овладеть божественной волей, а средством является активность интеллектуального созерцания в свободном художественном творчестве. Очевидно, что Соловьев включил шопенгауэровскую эстетику в круг своего внимания. Но у него поэт упивается не созерцанием, он достигает желаемого в синтезе позитивного «откровения», он не только способен выразить идею (божественность), но одновременно реализовать ее в полной мере в собственной индивидуальности.
Этическое действие для Соловьева, как и для Шопенгауэра, предполагает свободу воли. В докторской работе «Критика отвлеченных начал» (1880) Соловьев концентрируется на этике и эпистемологии, основательно анализируя взгляды Шопенгауэра. Хотя он согласен с шопенгауэровским обоснованием значения интуитивного знания, этическое действие, полагает Соловьев, чтобы обуздать волю, должно исходить из интеллекта. Соловьев спорит с Шопенгауэром и об основаниях морали. Для него это — сущее всеединое. Здесь он стремится обосновать возможность синтеза религиозного, философского и научного знания, в котором религиозно-мистический взгляд и достигнутое рационализмом знание связывается с эмпирическим восприятием.
Острая полемика с Шопенгауэром предстает перед нами в трактате Вл. Соловьева «Смысл любви» (1892). Не называя имени, Соловьев по пунктам опровергает шопенгауэровскую метафизику половой любви. Чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, пишет Соловьев, тем сила размножения становится слабее, а сила полового влечения, напротив, сильнее. У человека половая любовь достигает наибольшей силы и принимает индивидуальный характер. Иными словами, половая любовь и размножение находятся между собой в обратном отношении: чем сильнее одно, тем слабее другое.
Объяснять избирательность в любви как средства родового инстинкта размножения, хитрость рода, цель которого — порождать лучшие образчики человечества, неверно хотя бы потому, что в истории человечества нельзя найти прямого соотношения между силой любовной страсти и значительностью потомства. Самая сильная любовь часто остается неразделенной и потомства вообще не производит. Если весь смысл любви в потомстве, почему же природа мешает воссоединению любящих и доводит их до безвременной и бездетной кончины? Бывает, что влюбленная пара доживает до глубокой старости, оставаясь бездетной и не изменяя своей любви.