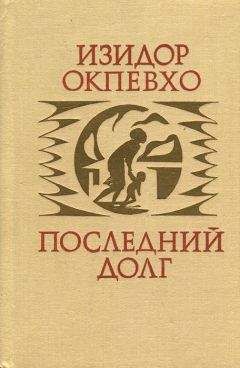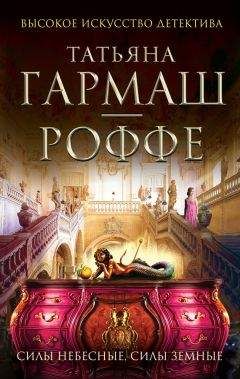Михаил Воронецкий - Мгновенье - целая жизнь
— Но мы этого и не скрываем, — сдержанно сказал Куницкий, горячо разделявший идеи «Народной воли» и находившпйся под обаянием героической судьбы этой партии. — Мы открыто заявляем не только о солидарности с «Народной волей», но и о союзе с ней, разумеется, на федеративной основе. Впрочем как и со всеми революционными группами всех национальностей. И наша цель — политическое, национальное и социальное освобождение трудящихся.
— Да, но пути к его достижению разные. Я лично считаю, что прежде чем стремиться к политическому освобождению трудящихся, их необходимо закалить в терпеливой многотрудной экономической борьбе с капиталом. А в немедленном политическом столкновении с самодержавием мы неминуемо потерпим поражение и тем самым только отдалим достижение главной цели.
Трудно было найти двух более противоположных по характеру людей: пылкому, увлекающемуся и постоянно воспламеняющемуся Куницкому противостоял человек осторожный, раздумчивый, рассудительный. Они и внешне-то резко отличались друг от друга. Стась Куницкий — стройный, порывистый, с очень подвижными большими черными глазами, унаследованными от матери-грузинки.
Пухевич — сутуловат, суховат, серые глаза за стеклами пенсне глядели на собеседника пристально, как бы остановившись…
— Вы сказали… «я лично считаю»… стало быть, есть и другие точки зрения у ваших товарищей? — поинтересовался Куницкий.
— Нет, в основном мы солидарны, но подход к одним тем же проблемам у различных людей может быть разный. Это естественно.
— И все-таки я, — настаивал Куницкий, — хотел бы побеседовать и еще кое с кем из товарищей.
— Хорошо. Завтра я вас сведу с Варыньским. Он недавно нелегально вернулся в Варшаву.
Но Варыньский, которому этот черноглазый пылкий юноша сразу же понравился своей страстностью и горячей преданностью делу, не стал с ним спорить по программным вопросам.
— А знаете что, Станислав… — предложил он, — у меня сегодня назначена сходка рабочих в предместье Воля, — пойдемте туда со мной. А?
— Я готов, — не раздумывая, ответил Куницкий, всегда готовый куда-нибудь идти и что-нибудь делать. — Но мой польский! Он не будет шокировать твоих карбонариев, Людвик? — не то в шутку, не то всерьез спросил Станислав, незаметно перейдя на «ты».
— У пролетариев всего мира, Станислав, как и у нас, социалистов, один язык — революционный. Правду революции рабочий понимает больше сердцем, чем на слух, — ответил Людвик и дружески тронул Куницкого за плечо.
Они посмотрели друг другу в глаза и одновременно поняли: с этой минуты они товарищи. Что бы ни случилось, как бы ни сложились их личные судьбы, в революции они пойдут вместе до конца!
Вечером, когда Куницкий снова встретился с Пухевичем, Казимеж спросил:
— Ну, как вам Варыньский?
— Вы не можете себе представить, как я вам благодарен за это знакомство! — пылко воскликнул Куницкий.
— Нет, почему же?! Очень даже представляю. Я сам глубоко уважаю этого человека, хотя…
— Нет, нет, это не те слова! — прервал Куницкий Казимежа. — У меня к нему иное чувство, нежели уважение. Людвик приковал меня к себе навсегда. Ведь он первый социалист, который изложил мне свои идеи так, что я с ним почти целиком согласился.
Пухевич добродушно улыбнулся.
— Однако, — сказал он, — вы же не оговорились, сказав, «почти целиком»?
— Нет, не оговорился. Знаете, в чем я поначалу но согласился с ним? С утверждением о близости революции. Но и в этом он потом убедил меня.
— Каким же образом?
— Он пригласил меня побывать с ним на двух рабочих собраниях.
Пухевич, почти не появлявшийся среди рабочих и все свои контакты ограничивавший связями со студенческими и интеллигентскими кружками, с нескрываемой завистью смотрел на возбужденное смуглое лицо Куиицкого, на котором светились огромные черные глаза. Он хотел было что-то сказать, но передумал и только пошевелил губами.
— Таких рабочих, — возбужденно говорил Куницкий, — я увидел первый раз в жизни!
— Чем же они так поразили вас? — тихо спросил Пухевич.
— Понимаете, они совершенно трезво смотрят на свою жизнь, понимают причины своего угнетенного, униженного существования и полны абсолютной веры, что скоро настанет конец такому положению. Я был ошеломлен. Ни одна студенческая сходка, ни одна книжка политического характера, ни одна прокламация не производили на меня такого впечатления. Теперь я верю, что партия, о создании которой хлопочет Варыньский, будет создана в Польше.
Янкулио и без майора Секеринского видел, что дело о кружке Савицкого не стоит выеденного яйца. Во всяком случае, оно мало принесет радости и жандармскому управлению и прокуратуре: ни повышения в чинах, ни даже прибавки к окладу… Барановского заагентурили на всякий случай — так, как рачительный мужичок несет в свое хозяйство всякую железку и палку: авось, да и пригодится на что-нибудь.
Но через некоторое время ситуация изменилась. Майор Секеринский положил на стол Янкулио агентурные сводения, полученные от Заграничного бюро русской охранки. Сведения были настолько ценны, что товарищ прокурора даже присвистнул.
Эти два так непохожих друг на друга человека, вынужденные тесно общаться по службе, в душе ненавидели друг друга. Но жизнь поставила их в такое положение, что служебное благополучие и карьера одного зависели от успеха деятельности другого. Майор умел расставлять сети, но не обладал достаточным умом, чтобы правильно анализировать факты. Этим качеством был наделен Янкулио. Более того, имея добытые Секеринским сведения, он очень скоро замыкал цепь, безошибочно угадывая недостающие в ней звенья.
— Что я говорил! — воскликнул товарищ прокурора, потирая худые и белые, как у покойника, руки. — В нашем деле предчувствие превыше всего. До сих пор оно никогда меня не обманывало — не обмануло и на сей раз. Пока только разрозненные факты, но из них уже можно делать кое-какие обнадеживающие умозаключения.
— Какие же? — не сумел скрыть Секеринский возникшего любопытства.
— А вот какие. Из Женевы исчез ускользнувший от нас в Варшаве Варыньский. Ни в Париже, ни в Лондоне он не появлялся. Значит…
— Ты полагаешь, — перехватил мысль майор, — что он непременно должен объявиться в Варшаве?
— Именно так! И думаю, что я прав, если, конечно, за последнюю ночь я не превратился в идиота, — позволил себе пошутить товарищ прокурора.
— Но почему именно в Варшаве? — добивался Секеринский, хотя уже уловил направление мысли Янкулио. — Почему, скажем, не в Кракове? Там у него надежная база для деятельности…