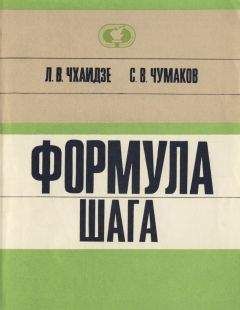Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний
Наконец за Хананом пришли и увезли его — на Бебеля, 12[2].
Ханан выжил. Не потому, что был невиновен или могуч телом и духом, ему просто повезло, он не успел погибнуть. Мы встретились с ним и с Верой в Одессе в конце пятидесятых, вскоре после его возвращения оттуда. Нам не терпелось расспросить его, но он помалкивал. Вера сказала мне: Боря, не спрашивай у него ни о чем, он ничего не расскажет, ему страшно. Если хочешь что‑нибудь узнать, спроси у меня, мне он рассказывает, иногда, ночью, под одеялом, шепотом…
Тем не менее одну фразу Ханан мне сказал сам. «Боря, — сказал он (это слышали только абрикосовые деревья дачного кооператива «Солнечное»), — меня допрашивали в нашей квартире, в вашем кабинете».
* * * * * *Какое‑то внутреннее препятствие все еще мешает мне приступить к изложению центрального сюжета. Собственно, я знаю какое. Сходные случаи описаны во всех популярных сочинениях по теории литературы. Автор начинает все более отождествлять себя со своим героем («Госпожа Бовари — это я») и следует за ним туда, куда и не чаял.
Мне совсем нетрудно отождествить себя с еврейским поэтом Хананом Вайнерманом.
Когда его «взяли», он знал, куда его повезут и где будут мучить. Скорее всего, железные ворота и верные часовые в сводчатом туннеле за ними ему не были видны, его вытолкали из фургона государственной безопасности уже в дворе — колодце и отвели в подвальную камеру.
В довоенное время туда вела небольшая лестница — мимо дворницкой квартиры, очень было удобно приспособить ее под тюремную контору. Канализации там в подвальных камерах, не было, это мы точно помнили, но она в тюрьме и не требуется.
О чем размышляет невинный человек в темном ожидании первой встречи с гражданином следователем? О жене и дочери? О наименее губительных признаниях, когда начнут бить? Или при первых угрозах? Кого оговорить, а кого не предать? Возможно, Ханана била неуемная дрожь, и он вообще ни на чем не мог сосредоточиться. Сколько времени так можно погибать? Были ли соседи по камере — сараю и что они?
Но вот — Вайнермана вызывают на допрос. Какой путь вел от бывшего сарая до бывшей квартиры № 10?
Инженерная служба румынских, а тем более советских органов могла себе позволить рационально обоснованные расходы и соорудить подземный коридор до лестниц, парадной или черной, по которым можно было привести преступника на допрос в наш кабинет. Но можно было и без подземного коридора. Если по парадной, то его следовало провести через двор, затем — полтора марша по светлой мраморной лестнице (не так уж высоко, удобно, если ноги не держат), первая, левая дверь на площадке бельэтажа — и он оказывается прямо напротив двери своей комнаты — той, с большим окном слева, куда он вселился с Верой лет за восемь до войны, где писал стихи, спорил о литературе с друзьями, где родилась Юленька. Затем ему велят идти направо…
Возможно, инженерная мысль организовала движение заключенных на допросы иначе, был такой конструктивный ход, и он кажется мне более удачным.
Из подвалов левой стороны двора, там, где вход охраняла бывшая квартира дворника Григория, нетрудно было соорудить подземный выход к длинному коридору, который вел мимо публичного туалета на черный двор. В каждом дворе нашего южного города, в каком‑нибудь дальнем углу можно было найти спасительную нишу, такова была традиция. Одессит, попавший в Москву или Питер, не уставал удивляться бесчеловечной жестокости отцов и строителей города — известны случаи, когда отсутствие поблизости общественного туалета имело необратимые последствия.
Обширный, темный бифункциональный коридор в детстве внушал мне ужас. Чтобы попасть на черный двор, надо было миновать это место, открытое взорам прохожего; маленьким я был стыдлив. Иногда мне покровительствовала старшая кузина Жозя, она жила в нашем же доме и была моим самым близким другом и покровителем; входя в ужасный коридор, она громко и нараспев кричала: «КТО ЕСТЬ?» Я изумлялся ее героической находчивости. Если НИКОГО НЕ БЫЛО, мы смело следовали мимо человеколюбивого устройства на три очка и выходили на черный двор, откуда по черной же лестнице можно было попасть на кухни многих квартир, в том числе и нашей.
Трудно допустить, чтобы пространственно — психологические стратеги из одесского КГБ упустили такую возможность. Вообразите — из тесной и вонючей камеры разоблаченного агента Моссада, ЦРУ и всего мирового сионизма вели по ступенчато расширяющемуся коридору, где густая вонь параши переходила в разбавленную вонь дворовой уборной, затем — через узкий черный двор и по черному ходу его вводили на бывшую кухню, там наверняка за казенным столом сидел дежурный старшина в фуражке с исторически малиновым околышем, он что‑то проверял и регистрировал, затем, мимо малой дежурки (там в мирное время неутомимо зачинала эмансипированная домработница Оля), через узковатый проход — в обширную канцелярию, бывшую комнату Даниловен, где углублялись в папки с надписью «ДЕЛО» молчаливые офицеры в форме и в статском, гладкие, невыразительно пристойные, без индивидуальных примет… Далее — чистый коридор, где справа — та самая парадная дверь, а напротив нее, слева, — дверь в свою комнату, в комнату Вайнерманов. Интересно, в каком положении находилась дверь, когда Ханана вели на допрос — закрытом наглухо? Распахнутом? Или чуть приоткрытом? Слышались ли оттуда, из комнаты, какие‑нибудь звуки — крики, хрипы, или, скажем, гул доверительной беседы?
— Проходить, проходить, не останавливаться! Не смотреть по сторонам! Прямо!
Прямо — это и была дверь в наш кабинет. Стол следователя, вероятно, стоял у окон… нет, скорее — слева от двери, около высокой кафельной печи, а одинокий аскетический стул для поэта — преступника, шпиона и вредителя — посреди комнаты, спиной к окнам… Нет, первый вариант лучше: следователь спиной к окнам, тогда его силуэт против света, в контражуре, как говорят специалисты, воспринимается обобщенно и выражение лица плохо различимо, тогда как мимика допрашиваемого видна во всех нюансах и выдает проницательному следователю попытки скрыть истину. Впрочем, почему его надо допрашивать днем?
Значит, так. Следователь сидит спиной к простенку между балконной дверью и окном, примерно в том месте, где находилась клавиатура рояля. Мама была пианистка, она окончила Одесскую консерваторию, дома бывало много учеников и постоянно звучала музыка так называемого педагогического репертуара, я с младенчества знал ее на слух. Рабочий инструмент был кабинетный рояль фирмы «Мюльбах»; я рано научился читать, но, конечно, одну кириллицу; слово MЬHLBACH я легко прочитывал как русское «мунгвасн» — и эти непроизносимые «мунг», <гнгв» и «васн» очень меня раздражали. Позднее ко мне стала приходить учительница немецкого Елизавета Адольфовна Гут, коммунистка, бежавшая от Гитлера, не знавшая ни слова по — русски, оголодавшая и запуганная, с глубоко запавшими немецкими глазами, — мама всегда приготовляла ей к уроку чай с бутербродами. Она научила меня латинскому шрифту и, чтоб не измучилось дитя, давала мне читать что‑нибудь интересное для мальчика — вначале это был Reineke Fuchs Гёте, не адаптированный, впрочем, для нежного возраста. Благодаря науке я стал правильно читать название фирмы на крышке фортепиано, но зато появились другие неясности, и среди них такая — куда, спустя некоторое время, девалась сама Елизавета Адольфовна?