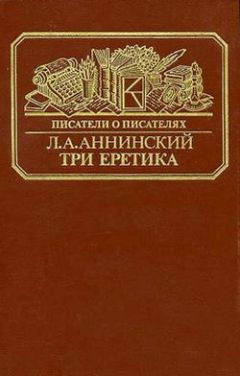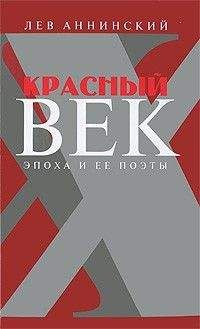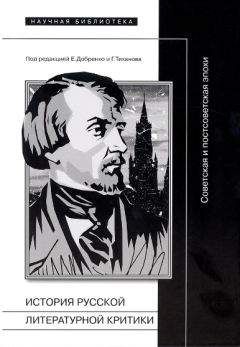Лев Аннинский - Три еретика
Перейдя таким остроумным образом в английскую гостиную, Дружинин принимается рассказывать о британских народных балладах и к российскому „Тюфяку“ более не возвращается.
Возвращается к „Тюфяку“ — обозреватель „Отечественных записок“ 1851 года. Зачем возвращается? Не все сказано? Или не все понято? Вообще — любопытно это непрестанное возвращение к повести в отзывах первых критиков (мы увидим, что и „Современник“ к ней вернется, и не только он) — что это? не признак ли, что критики никак не сообразят, каким образом повесть истолковать?
Вернувшись к „Тюфяку“ в огромном обзоре „Русская литература в 1850 году“, Алексей Галахов (или это Степан Дудышкин?) удостоверяет, что он по–прежнему искренне радуется появлению нового таланта, но — да не сочтет нас г. Писемский придирами! — хочет исчислить в его повести и некоторые недостатки. Зачем Бешметев так внутренне неподвижен? Он же человек образованный! А такое безволие… Это неестественно. „У него нет воли самодействующей, нет даже воли, способной противоборствовать, когда посягают на ее собственность, наконец, нет простой косности внутренней (?), которая, подобно косности физической (?), заставляет каждое событие, одним спокойным своим пребыванием (?), — потому только, что оно бытие (?), что–нибудь, а не ничто (??), — противиться действующей на него силе…“
Курсивы и вопросы, разукрасившие этот пассаж, — не мои: это вскоре проделает с текстом „Библиотека для чтения“, когда до „Тюфяка“ дойдут руки у Сенковского. Это будет в мае.
А в феврале успевает еще раз вернуться к Писемскому „Современник“. В „Обозрении русской литературы за 1850 год“, в статье второй. (Автор — Владимир Гаевский, молодой либерал. В будущем — изгнан со службы по подозрению в контактах с Герценом. В будущем также — один из основателей Литературного фонда.)
— Бешметев, — пишет он, — безволен. Это непонятно. Что он — чурбан, брошенный в болото? Извините: мы употребляем слово „чурбан“ не для обиды. Мы же видим, что Бешметев — человек с умом и чувствами. И сам г. Писемский, надо думать, понимает это. Зато как хороши у него второстепенные лица! Перепетуя Петровна и Феоктиста Савишна летают и хлопочут — ну, как живые! А Бешметев, — возвращается В.Гаевский к чертову тюфяку, — что он такое? Пожалуй, он не герой повести, в нем нет движения. Может быть, „Тюфяк“ вовсе и не повесть?! Идея г. Писемского как–то не имеет окончательного развития, как бывает в повестях. И развязка скомкана: мы ждали борьбы (может быть, тогда что–нибудь поняли бы… — Л.А.), а Бешмётев взял и помер… Но написано бойко, живо!
На этой бодрой ноте „Современник“ завершает разбор. И тут не выдерживает молодая редакция „Москвитянина“:
— Повесть перед нами или не повесть, это совершенно неважно: у нас все называется повестью…
„Москвитянин“, апрельская книжка (№ 7) 1851 года. Рецензия на отдельное издание „Тюфяка“, сброшюрованное Погодиным в типографии Московского университета. Подпись: „О.“
Островский… И тон выдает: спокойная прямота; без игры говорит человек и ничего не прячет.
Пообещав разобрать журнальные отзывы о повести, Островский замечает, что секрет Писемского не в умственной идее, а в живых образах: это талант чисто художественный и очень искренний. Поэтому для начала Островский пересказывает сюжет. Пересказав, выписывает пару страниц. Выписав, спрашивает: что же все это означает? Далее — суть:
„Мы не вправе винить этих людей, если… недостаток житейских способностей в них — органический, природный недостаток…“ То есть: Бешметев сам по себе хорош, только ему не дают реализоваться. Эту мысль и хотел выразить автор, и критики, к несчастью, не обратили на нее внимания и говорили о постороннем.
Этим замечанием „разбор критики“ у А.Островского и исчерпывается. В заключение он с подкупающим прямодушием сознается: „В то время, как я писал этот разбор, я думал, что непременно найду для видимости беспристрастия, за что в конце побранить автора; но окончивши, я вижу, что решительно не за что“.
Пожалуй, это не статья критика. Но точность эмоционального отношения — замечательна. Придет время, эмоциональное отношение будет истолковано: за повесть Писемского возьмется в кругу „Москвитянина“ критик. Это будет Аполлон Григорьев. Возьмется он за это дело через два года. Но эти два года другие критики еще потолкут воду в ступе.
Май 1851 года: слово берет старик Сенковский. „Старик“ — фигурально: пятьдесят лет от роду; но блистательное шутовство Барона Брамбеуса — позади, и лучшие годы „Библиотеки для чтения“ — тоже; на фоне журналов с „направлением“ нынешняя „Библиотека…“ выглядит жалко. Однако и Сенковский хочет высказаться о явлении, вызывающем всеобщий интерес.
— Труд Писемского, — объявляет он, — есть одно из самых замечательных беллетристических произведений прошлого года… Начать так блистательно удавалось не многим. (Следует пересказ содержания.) Автор, однако, далеко запрятал свою личность: из его повести вы не узнаете ни его убеждений, ни образа мыслей. (Что же тогда у него так замечательно? — Л.А.) А верность действительности! А точность описаний! (Следует семь страниц выписок.) А Масуров, напоминающий Ноздрева! А главный герой… Но что же, однако, с ним делать?… Он — неопределенный какой то… Лучше бы автор придал ему меньше инерции (рецензент хочет сказать: „инертности.“ — ЛЛ.), так было бы понятнее. — Несколько завязнув в своих рассуждениях, рецензент „Библиотеки для чтения“ находит спасительный выход: он переключается на своего коллегу из „Отечественных записок“. Процитировав дикий абзац о „косности внутренней“ и „косности физической“ (см. выше) и расставив в этом абзаце возмущенные вопросительные знаки, журнал „Библиотека для чтения“ завершает дело предположением, что непостижимая абракадабра журнала „Отечественные записки“ повергла г. Писемского „в совершенное недоумение“.
Г–н Писемский безмолвствует.
Два с половиной года спустя журнал Сенковского еще раз вернется к повести „Тюфяк“. Он сообщит читателю, что герой г. Писемского дик, вял и нравственно тяжел до неправдоподобия, что г. Писемский зря подражает Гоголю, что этот путь вреден для нашей изящной словесности и что „Тюфяк“ нам… (т. е. „Библиотеке для чтения“) сразу не понравился…
Как?! А „одно из самых замечательных произведений года“?! А „блистательное начало“? А верность „действительности“? Ну, ладно. Методология Осипа Сенковского не входит в круг наших забот, важно другое: два с половиной года понадобилось „Библиотеке для чтения“, чтобы смутное беспокойство, терзавшее ее рецензента при первом чтении талантливой и непонятной повести Писемского, реализовалась в отчетливом ее отрицании, пусть даже совершенно бездоказательном.