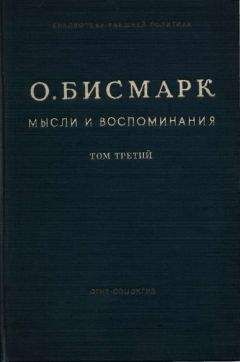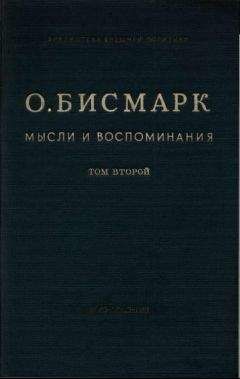Надежда Дурова - Кавалерист-девица
Более трех недель стоим мы здесь; мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надеюсь, однако ж, привыкнуть; но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам! они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! ах, боже! я точно прикована к земле тяжестию моих сапог и огромных брячащих шпор! Охотно бы заказала сшить себе одну пару жиду-сапожнику, но у меня так мало денег; надобно терпеть, чего нельзя переменить.
С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякой день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтоб наполнить им мою фуражку; тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее; суровая эта женщина всегда с ворчаньем вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчаньем высыплет в горшок, и когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу; что за злая баба! а, кажется, ей нечего жалеть картофелю, он весь уже снят и где-то у них запрятан; плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших.
Вчера хозяйка разливала молоко; в это время я вошла с моей фуражкой, полной картофеля. Хозяйка испугалась, а я обрадовалась и начала убедительно просить ее дать немного молока к моему картофелю. Страшно было видеть, как лицо ее подернулось злобою и ненавистию! Со всеми проклятиями налила она молока в миску, вырвала у меня из рук фуражку, рассыпала весь мой картофель по полу, но тотчас, однако ж, кинулась подбирать; это последнее действие, которого я угадывала причину, рассмешило меня.
Взводный начальник наш поручик Бошняков взял меня и Вышемирского к себе на квартиру; будучи хорошо воспитан, он обращается с нами обоими как прилично благородному человеку обращаться с равными ему. Мы живем в доме помещика; нам, то есть офицеру нашему, дали большую комнату, отделяемую сенями от комнат хозяина; мы с Вышемирским полные владетели этой горницы, потому что поручик наш почти никогда не бывает и не ночует дома; он проводит все свое время в соседней деревне у старой помещицы, вдовы; у нее есть прекрасная дочь, и поручик наш, говорит его камердинер, смертельно влюблен в нее; жена помещика наших квартир, молодая дама редкой красоты, очень недовольна, что постоялец ее не живет на своей квартире; она всякий раз, как увидит меня или Вышемирского, спрашивает, очень мило картавя: «Что ваш офицер делает у N.N.? Он там от утра до ночи, и от ночи до утра!..» От меня она слышит в ответ одно только — не знаю! Но Вышемирский находит забавным уверять ее, что поручик страшится потерять спокойствие сердца и для того убегает опасной квартиры своей.
Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде; только на ученье тяжелая, дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо, когда надобно вертеть ею поверх головы: досадный маневр!
Мы идем за границу! в сраженье! Я так рада и так печальна! Если меня убьют, что будет с старым отцом моим! Он любил меня!
Чрез несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле! Пишу к отцу, где я и что я теперь; пишу, что, падая к стопам его и обнимая колена, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем, необходимым для моего счастия. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велено выводить лошадей; мы сию минуту выступаем; мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем Алкиде. Мы идем в Пруссию и, сколько я могу заметить, совсем не торопимся; наши переходы умеренные, и дневки, как обыкновенно, через два дня и через три.
На третьем переходе Вышемирский сказал, что от этой дневки недалеко селение дяди его, у которого живет и воспитывается родная его сестра: «Я попрошусь у ротмистра съездить туда на один день, поедешь ли со мною, Дуров?» — «Если отпустят, охотно поеду», — отвечала я. Мы пошли к ротмистру, который, узнав наше желание, тогда же отпустил нас, приказав только Вышемирскому беречь свою лошадь и подтвердив нам обоим, чтоб непременно явились через сутки в эскадрон. Мы отправились. Селение помещика Куната, дяди Вышемирского, отстояло пять миль от деревни, где должно было дневать нашему эскадрону, и мы, хотя ехали все рысью, приехали, однако ж, в глубокую полночь; тишина ее нарушалась едино-звучным стуком по доске, раздававшимся внутри обширного двора господского, обнесенного высоким забором; это был сторож, ходивший вокруг дома и стучавший чем-то по доске. Ворота не были заперты, и мы беспрепятственно въехали на двор, гладкий, широкий, покрытый зеленою травою; но только что шаги лошадей наших послышались в тиши ночной, в один миг стая сторожевых собак окружила нас с громким лаем; я хотела было, несмотря на это, сойти с лошади, но, увидя вновь прибежавшую собаку, почти вровень с моим конем, села опять в седло, решась не вставать, хотя бы это было до рассвета, пока кто-нибудь не придет отогнать атакующих нас зверей. Наконец сторож с клепалом в руках явился перед нами; он тотчас узнал Вышемирского и чрезвычайно обрадовался. Собаки по первому сигналу убрались в свои лари; явились люди, принесли огня, лошадей наших взяли, отвели в конюшню, а нас просили идти к пану эконому, потому что господа спали и все двери кругом заперты. Не знаю, как весть о приезде Вышемирского проникла сквозь запертые двери целого дома; но только сестра его, спавшая близ теткиной спальни, узнала и тотчас пришла к нам. Это было прекраснейшее дитя лет тринадцати. Она важно присела перед своим братом, сказала як се маш![1] и бросилась со слезами обнимать его. Я не могла понять этого контраста. Нам подали ужинать и принесли ковры, подушки, солому и простыни, чтоб сделать нам постели. Панна Выше-мирская восстала против этого распоряжения; она говорила, что постель не нужна, что скоро будет день и что брат ее, верно, охотно будет сидеть и разговаривать с нею, нежели спать. Эконом смеялся и отдавал ей на выбор, или идти в свою комнату, не мешая нам лечь спать, или остаться и для разговору с братом лечь к нам в средину. Девочка сказала: «Встыдьсе, пане экономе!»[2] и ушла, поцеловав прежде брата и поклонясь мне. На другой день позвали нас пить кофе к господину Кунату. Важного вида польский пан сидел с женою и сыновьями в старинной зале, обитой малиновым штофом; стулья и диваны были обиты тою же материею и украшены бахромою, надо думать, в свое время золотою, но теперь все это потускло и потемнело; комната имела мрачный вид, совершенно противоположный виду хозяев, ласковому и добродушному; они обняли своего племянника, вежливо поклонились мне и приглашали взять участие в завтраке. Все это семейство чрезвычайно полюбило меня; спрашивали о летах моих, о месте родины, и когда я сказала им, что живу недалеко от Сибири, то жена Кунаты вскрикнула от удивления и смотрела на меня с новым любопытством, как будто житель Сибири был существо сверхъестественное! Во всей Польше о Сибири имеют какое-то странное понятие. Кунат сыскал на карте город, где живет отец мой, и уверял, смеючись, что я напрасно называю себя сибиряком, что, напротив, я азиятец. Увидя на столе бумагу и карандаши, я просила позволить мне что-нибудь нарисовать. «О, очень охотно», — отвечали мои хозяева; не занимаясь уже давно этим приятным искусством, я так рада была случаю изобразить что-нибудь, что сидела за добровольною своею работою более двух часов. Нарисовав Андромеду у скалы, я была осыпана похвалами от молодых и старых Кунатов. Поблагодаря их за снисхождение к посредственности таланта моего, я хотела подарить мой рисунок панне Вышемирской; но старая Кунатова взяла его из рук у меня, говоря: «Отдайте мне, если он вам не надобен, я буду говорить всем, что это рисовал коннополец, урожденный сибиряк!» Кунат вслушался. «Извини, мой друг, ты ошибаешься, Дуров азиятец; вот посмотри сама», — говорил он, таща огромную карту к столу жены своей.