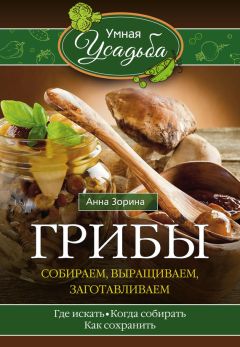Вера Андреева - Эхо прошедшего
Незаметно сделалось так, что к папе все стали относиться как к больному. «Тише, дети, у папы болит голова! Не шумите, папа спит! Не ходите в кабинет, папа работает!» — только и слышно было в доме. Но я видела, что папа не работал, а ходил взад и вперед по своему огромному кабинету, и его неумолчные шаги слышались даже ночью. Он не болен, потому что к нему не зовут доктора и он не лежит в постели, а в то же время у него такой вид, как тогда, когда он зажигал спичку. По молчаливому уговору все стараются припрятать для него самую вкусную еду, которая, кстати сказать, становилась все более скромной. Эти наивные усилия были направлены на смягчение, улучшение его жизни, тяжесть и нелепость которой с каждым днем все больше наваливалась на него, страдальчески сдвигала брови, горела лихорадочным огнем в запавших глазах.
Постройка дорожки, возбуждение и рабочий азарт, споры о технических деталях, измерения натянутым шнуром, борьба с обрывом, с упрямыми корнями деревьев — все это был самообман. Так смертельно усталый пловец еще двигает руками и ногами, стараясь доказать себе, что у него хватит силы доплыть до берега, но его судорожные движения не могут никого обмануть, и гребцы, сгибая весла, уже мчатся ему на помощь. Но папе никто не мог помочь…
А мы, дети, с искренним увлечением возили взад и вперед наши маленькие тачки, сделанные папой, копали, нагружали, выгружали.
А на обрыве росла черемуха, ландыши прятались в его тенистых, одним нам известных уголках, и в нагретой траве душно пахло дикой гвоздикой, — ее тоненькие, липкие на суставчиках стебельки с лилово-красными звездочками цветов густо росли на склоне. На том же, обращенном к югу, покатом склоне обрыва, среди поблекшей от солнца травы, росли скромные, неяркие цветочки — кошачьи лапки. Все так же мы плели из них венки, не подозревая о том, что скоро одному из этих венков суждено будет проехать по всем печальным дорогам Европы. Этот засохший венок из родных кошачьих лапок нашего сада будет окружать рамочку с наглухо закрытыми дверцами, а за дверцами на фотографии мертвая папина голова, тяжело вдавленная в подушку.
Безмятежно и беззаботно мы радовались жизни, не придавая никакого значения наступившим переменам, а подчас и вовсе не замечая их.
А перемены наступали незаметно и для более наблюдательного глаза, — с виду все было благополучно и даже счастливо. Не всегда папа выглядел таким мрачным и озабоченным, иногда он шутил и смеялся по-прежнему, как будто бы его вновь согрели какие-то надежды. Мы так любили папину улыбку, что инстинктивно старались сделать ему какое-нибудь удовольствие для того, чтобы он улыбнулся, мы старались заранее предугадать его желания и стремглав бежали исполнить их. Мы изучили до мелочей все его привычки, вкусы. Мы собирали полевые цветы, причем букет из папиных любимых маков, ромашек и колокольчиков ставился обязательно в кабинет, на письменный стол. Для остальных членов семьи тоже собирались букеты: мамин — ландыши и шиповник, бубушкин — дикая гвоздика и кашка, тети Наташин — ночная фиалка и те желтые, нежные цветы, которые растут на сырых тенистых лугах, — у них круглые головки и лепестки завернуты внутрь, как у маленьких брюссельских капусток. Возможно, что одаренные нами взрослые для того только, чтобы доставить нам удовольствие, так шумно выражали свой восторг, но мы принимали их эмоции за чистую монету и не жалели трудов, лазая по оврагам и бегая на отдаленные луга в поисках их любимых цветов.
Бегали обыкновенно мы с Тином, — так уж повелось, что Саввка такими мелочами жизни не занимался.
Папа очень любил класть себе в чай несколько ложек земляники или малины. В саду у нас было вдоволь малины и были грядки с особой «ананасной» клубникой — ее желтовато-розовые ягоды в виде пузатых бутылочек были необыкновенно душисты, но папа предпочитал дикую малину и лесную землянику.
Мы с Тином вставали рано, когда солнце еще косо освещало дом и мокрая от росы трава холодила босые ноги, и, вооружившись кружками, проникали сквозь лазейку в сад Плаксина. Там был лужок, полого спускавшийся к реке. Если идти снизу и осторожно раздвигать траву, то тут и там можно было увидеть красные земляничины, скромно прячущиеся под листьями. Драгоценных ягод бывало, однако, очень мало, и нам в голову никогда не приходило положить какую-нибудь в рот. Осторожно, чтобы не помять, мы срывали их дрожащими от напряжения пальцами и клали в кружку, причем ягоды помельче и похуже клались вниз, а самые крупные и спелые составляли верхний слой. Мы рыскали в неприступных оврагах, обшаривали самые крутые склоны, обыскивали все известные нам места, где когда-либо посчастливилось найти несколько ягодок. Полные охотничьего азарта, мы забирались далеко от дома и, несчетное число раз примерившись, достаточно ли высоко поднялся уровень ягод в кружках, мы наконец решали бежать домой, чтобы не опоздать к чаю. Небольшая задержка у молоденькой липки — ягоды лучше всего выглядят на ее больших круглых листьях, и нужно их нарвать побольше, — мы, усталые, голодные, исцарапанные, но бесконечно счастливые, рысью устремлялись по знакомым тропинкам домой.
Для подбодрения духа и для быстроты срезались хлыстики, непременно из молодых побегов рябины или ивы, причем на конце обязательно оставлялся пучок мягких листочков. Пробираясь рысцой по заросшим подорожником тропинкам, мы легонько стегали себя по ногам этими хлыстиками, приговаривая в такт: «Мендель-рысью, мендель-рысью…» Что это заклинание должно было означать и откуда оно взялось, этого никто не знал, но оно значительно облегчало бег и придавало ему известный ритм и гармонию. Такой «мендель-рысью» мы могли пробежать много километров, а на лицах у нас в это время расплывались блаженные улыбки, вызванные ритмичной слаженностью движений.
Прискакав домой, мы шли в столовую, где огромный стол был уже накрыт к утреннему чаю. Торопливо, пока никто не вошел, мы раскладывали на скатерти наши липовые листья и распределяли землянику по точно установленному правилу: папе самая большая кучка тщательно отобранных спелых ягод, маме кучка поменьше, бабушке еще меньше, другим домочадцам уже просто по нескольку ягод. Ведь, собственно говоря, вся земляника была папина, остальных мы только угощали, так сказать, от его имени. Себе, конечно, мы не оставляли ничего — как можно! — самим собирать, потратить столько трудов и вдруг съесть — даже совсем невкусно!
Когда все порции были как можно декоративнее разложены, мы с Тином отступали на шаг, чтобы еще раз окинуть взором всю картину, — как красиво выделялись красные ягоды в зелени листьев на белоснежной скатерти! Смешно сказать, но мы чуть ли не с благоговением смотрели, как папа набирает на ложечку землянику, опускает ее в стакан, раздавливает в чае и пьет. Он улыбается и подмигивает нам. Этот момент сторицей вознаграждает нас за труды. Да какие там труды!