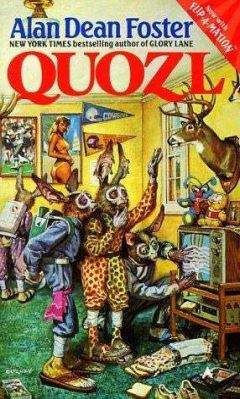Труди Биргер - Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище)
В конце июня, перед тем как загнать нас в Слободку, немцы позволили литовцам устроить там кровавую бойню: разграбить синагоги и уничтожить свитки Торы, умертвив при этом более тысячи евреев, в основном раввинов и студентов вместе с их семьями. Это их кровь растеклась красными пятнами на стенах домов местечка.
После того, как ортодоксальное население Слободки было истреблено, их домов все равно не хватало для евреев из Ковно. И тогда нееврейское население Слободки, проживавшее в убогих общественных зданиях, было в свою очередь выселено, чтобы евреи могли занять их жилье; каждая еврейская семья получила одну комнату в общежитии, где прежде проживали рабочие.
Нам тоже пришлось разместиться в такой отдельной комнате размером три на четыре метра, в которой не было ничего, кроме четырех кроватей и уборной. Снаружи, в конце коридора, находились маленькая кухня и душ. За исключением трех дней, проведенных в леднике, мы еще никогда не жили в подобной тесноте. Тем не менее, я помню чувство радости — ведь мы снова вместе. Нас выгнали из нашего дома, и мы тащились по улицам, не представляя себе, что нас ждет; более того, увидим ли мы заход солнца этим вечером? А сейчас у нас, так или иначе, было жилье. Это была крошечная комната, но в ней были стены и дверь.
Когда немцы приказали нам покинуть наши жилища в Ковно и перебраться в гетто, они распорядились, чтобы мы забрали с собою все наши деньги и ценности. Пытаясь угадать, что ожидает их в будущем, мои родители сочли это добрым знаком. Им показалось логичным предположение, что немцы просто пытаются организовать для нас новую жизнь — не такую, конечно, какая была перед советской оккупацией, и даже не такую, которая была в короткий период при немцах до того, как нас отправили в гетто (то был период, когда мы обязаны были носить желтые звезды и сносить все виды произвола и дискриминации) — но, тем не менее, нормальную жизнь. И если немцы хотят нас просто убить — зачем (рассуждали мои родители), зачем им нужно, чтобы мы брали все ценности с собой?
Я вспоминаю наши сборы перед тем, как двинуться в путь. Наша семья успокоилась, сравнивая настоящее с тем, что было во Франкфурте и Мемеле. Но пока что нам предстоял выбор: надо было решить, что мы берем, а что оставляем. У нас было из чего выбирать. Многое из того, что нас окружало: мебель, ковры, антиквариат мы неминуемо должны были оставить, также и одежду, которой было слишком много или которая была слишком шикарной, чтобы брать ее с собой — элегантные платья моей матери, отлично сшитые костюмы отца, мои собственные праздничные платья и модную кожаную обувь. Мне было горько прощаться с куклами и книжками, с миленькими юбками и кофточками, которых мне не суждено было больше носить.
Моя мать упаковывала все свои украшения; они представляли собой не такое уж бесценное сокровище, но она ими очень дорожила — это были подарки отца, которые он делал ей при каких-то особенных обстоятельствах на протяжении всей их совместной жизни: несколько золотых колец и браслетов, одно или два ожерелья из драгоценных камней, пара жемчужных сережек. Она доставала их одно за другим и бережно укладывала в шкатулку. Туда же отец добавил свои золотые часы на цепочке, несколько булавок для галстука, запонки для манжет, зажимы и пару перстней.
Они допускали, что им, возможно, придется обменять все эти вещи на еду. Будущее было так неопределенно. Сколько буханок хлеба могла принести мать, отдав свое обручальное кольцо? На сколько десятков яиц могла потянуть брошь с камеей? Во всяком случае, наличие драгоценностей оставляло нашей семье некое подобие надежды на выживание. Мы взяли все, что могли, и погрузили на небольшую тележку.
Наша новая комната пахла так же, как подвал мясника Йонаса. Все стены были заляпаны огромными красными пятнами. Я подошла поближе и дотронулась пальцем до красной кляксы. Никто не сказал мне ни слова. Я все поняла сама. Это была человеческая кровь.
Нам предстояло жить в большом общежитии. На каждом этаже тянулся коридор, куда выходили двери. Здание было трехэтажным, внутри у него был большой двор, чем-то оно походило на трамвай. Родители моей мамы и двое моих дядьев поселились неподалеку от нас.
Если уместно в подобных обстоятельствах говорить об удаче, то она нам сопутствовала — мы были вместе. Когда нацисты вынудили нас бежать из Мемеля в Ковно, мамины родственники присоединилась к нам — все, кроме моей любимой тетушки Титы, которая предполагала уехать со своим мужем в Ригу. Оба моих дяди, Якоб и Бенно, были очень преданы своим родителям и жили вместе с ними. Как я уже сказала, эти мои родные жили неподалеку от нас, и как было приятно навещать их, вспоминая недавнее прошлое. Мы приносили бабушке с дедушкой продукты, ибо им не полагалось продовольственных карточек, как всем тем, кто не мог работать. Я работала за пределами гетто, и мне часто приходилось проносить тайком то, что удавалось раздобыть.
Когда отец увидел размеры нашей комнаты, где не было ничего, кроме четырех кроватей и голых стен, он понял, что нам негде спрятать здесь наши драгоценности. Что могло воспрепятствовать любому постороннему войти вовнутрь, пока нас нет, и все стащить? Не могли же мы оставлять в доме кого-то, кто сторожил бы его двадцать четыре часа в сутки.
Позади нашего дома был большой пустырь. Младшие дети играли там среди сорняков, подальше от родительских глаз. Но я никогда не играла вместе с ними. Я быстро менялась. Я понимала, что сейчас не время для игр. Для меня этот заброшенный пустырь не был символом свободы. Он был символом опасности. Однажды, темной ночью, вскоре после нашего прибытия в гетто, отец и Манфред скрытно вышли из дома и закопали все наши драгоценности в укромном месте. «Теперь у нас есть деньги в банке», — пошутил отец, когда они вернулись и вошли внутрь, отряхивая землю с ладоней.
Я не помню, чтобы в гетто у меня были друзья одних со мною лет. Я всего лишь два года жила в Литве перед войной — время, явно недостаточное, чтобы обзавестись настоящими друзьями. Я не была одинокой маленькой девочкой. Я была независимой.
Нацисты незамедлительно организовали юденрат, административный комитет, составленный из еврейских функционеров — они отвечали перед немцами за беспрекословное подчинение приказам. Отец начал работать там клерком вместе с восьмью другими евреями.
Через несколько дней после того, как границы гетто были обнесены проволочными заграждениями, громкоговорители передали следующее объявление: для студентов университета и людей, обладающих дипломами о высшем образовании, выделены специальные рабочие места. Таких мест, гласило объявление, имеется всего несколько сот, а потому все, кто претендует на эту работу, должны заявить об этом немедленно.