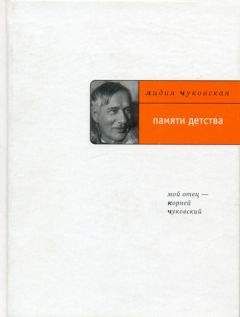Лидия Чуковская - Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962
– Ну нет, я так не работаю. А то, знаете, есть такая игрушка: кажется, будто обыкновенный пень, а подойдешь поближе – оттуда выскакивает страшная сова.
С трудом, медленно повернувшись на бок, она протянула руку к тумбочке и взяла однотомник Пушкина. Поискала там какое-то стихотворение, устала, не нашла и велела искать мне: 1830 год, неоконченный отрывок, во второй половине брусника, тундра, остров. Я нашла. Она попросила прочесть его вслух. Начинается строчками:
В 1953 г. в Гослитиздате вышла книжка литовской поэтессы Саломеи Нерис (1904–1947) – «Стихотворения и поэмы». В этом сборнике переводы двенадцати стихотворений и отрывка из одной поэмы принадлежат Анне Ахматовой.
Какие именно четыре строчки она прочитала мне – не могу ни вспомнить, ни догадаться.
Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье,
Как тень опять бежит ко мне
– а во второй половине:
…Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров – берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок
……………………………….
Анна Андреевна убеждена, что в этом неоконченном, необработанном отрывке речь идет о могиле декабристов. Набросок был найден, как ей сообщил Томашевский, среди черновиков «Онегина», и, хотя это не онегинская строфа, он полагает, что место отрывку в «Путешествии Онегина» или в X главе.
Разумеется, я ничего не могла сказать – Онегин не Онегин, Путешествие или X глава – но несомненная верность основной догадки сразу поразила меня. «Печальный остров – берег дикой» – да, за звуками этих пустынных слов – одиночество и могила, а «отдаленное страданье» – это его память о погибших друзьях и братьях – «о тех, кто в ночь погиб», как о своих погибших друзьях и братьях сказала Ахматова[7].
Память и темное чувство вины.
Ахматова не рукопись пушкинскую расшифровала, а силою родства биографии вспомнила вместе с ним то, что и он, и она всегда носили в душе – казнь близких – и потому ясно увидела недописанное: запретную, пустынную могилу на диком берегу. Она не стихи дописала, а пошла следом за тем душевным движением, от которого стихи родились, доверилась звуку предстиховой тишины, и он повел ее точной дорогой: дорогой пушкинской памяти, которая казнью декабристов была ранена навсегда. Она проникла в «отдаленное страданье».
Я попыталась высказать все это ей, но не успела[8]. В дверь постучали. Вошла пожилая, неряшливо раскрашенная женщина, с соломенными волосами, уже почерневшими у корней. Анна Андреевна поднялась, накинула шаль и учтиво приветствовала гостью. Это оказалась редакторша, принесшая ей для перевода норвежские стихи. Подстрочники. Я притащила из кухни для нее табуретку, Анна Андреевна величаво опустилась на стул, я устроилась в углу постели.
Из разговора мне сделалось понятно, что норвежец в нынешнем году празднует свое пятидесятилетие, книжку его у нас выпускают молнией и по всему этому Ахматова должна переводить «в срочном порядке»[9].
– Вам, с вашей высокой техникой, это не составит труда, – объясняла редакторша. – Я выбрала для вас самые разные… Я уверена, вам понравятся… Вы будете довольны… Я придерживалась вашего вкуса…
(Словно речь идет о материи на платье, и продавщица подбирает подходящие цвета для дамы-покупательницы!)
Анна Андреевна внимательно прочитала подстрочники один за другим. Потом попросила редакторшу указать возле каждого стихотворения, какой где размер.
Та заметалась.
– Я не умею… я недостаточно овладела теорией… я занимаюсь этим недавно… я замещаю.
Анна Андреевна сняла очки, аккуратно собрала подстрочники и уложила их в сумку. Потом спросила у редакторши, когда договор. О договоре та знала столько же, сколько о размерах.
Анна Андреевна смолкла, явно ожидая, когда посетительница уйдет. На лице – оледенелый гнев.
Редакторша поднялась, я проводила ее в переднюю и заперла за нею дверь.
Когда я вернулась, Анна Андреевна уже снова лежала на спине, широкая, на своей неширокой постели.
– А помните, – спросила я, – очень давно, в Ленинграде, вы говорили, что никогда не станете переводить?
– Да, помню. – И, медленным голосом: – Теперь-то мне уже все равно, а в творческий период поэту, конечно, переводить нельзя. Это то же самое, что есть свой мозг.
31 августа 52 Несколько дней назад я забежала на минуточку к Анне Андреевне.
Она с распущенными волосами, только что после ванны. Вернулась из Крыма Нина Антоновна – веселая, энергичная, красивая, загар, как шоколад. Мне показалось, Анна Андреевна тоже повеселела.
Нина Антоновна командует ею с заботливой свирепостью:
– Не сидите после ванны так близко от окна. Пересядьте, дует.
– Вы надели не то ожерелье. Сейчас подам другое. Не ленитесь, наденьте.
– М-me, вы забыли, что вам до конца жизни запрещена ветчина.
Анна Андреевна слушается кротко и радостно[10].
4 сентябр я 52 Вчера я была у Анны Андреевны.
Она показала мне экземпляр своей книги – той, уничтоженной. Ей ее подарил Сурков, а титул украшен драгоценным автографом Еголина. Построен сборник так же, как и «Из шести книг»; есть и незнакомый мне отдел: «Нечет», на который я сразу накинулась*. Но Анна Андреевна вынула у меня книгу из рук, заявив, что ей скучно так сидеть: «лучше я расскажу вам о Пушкине».
Она по-своему анализирует обстоятельства, приведшие к дуэли. Исходит она из того, что роман Дантеса с Наталией Николаевной длился не два года, как принято полагать, а всего полгода.
Пушкин угадал автора анонимных писем – Геккерна – и убедил в его авторстве Бенкендорфа и царя; но на этом удачи его наступления кончились. Женитьба на Екатерине Гончаровой, к которой Пушкин принудил Дантеса, на самом деле вполне устраивала жениха, потому что Наталию Николаевну он уже не любил, а женитьба на девушке хорошей фамилии была ему необходима. Геккерн и Дантес, в противовес пушкинской, создали собственную версию этой женитьбы: Дантес, мол, героически женится на Екатерине Гончаровой во имя своей высокой страсти к Наталии Николаевне: чтобы быть поближе к любимой женщине. Этой версией они уничтожали пушкинскую, для Дантеса позорную.
Говорила Анна Андреевна с большой горячностью.
– Пушкин, который даже Музу свою не подпускал к своему семейному очагу! и вдруг царь унтер-офицерскими лапами лезет в его семейную жизнь и делает замечание Наталии Николаевне, «предостерегая ее отечески»! Мог ли он это перенести?[11]