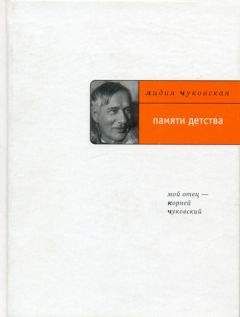Лидия Чуковская - Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962
Скоропостижная улыбка миновала, а я все еще смеялась. Я вспомнила.
(Нечкина просила меня представить ее Ахматовой. Анна Андреевна разрешила. В назначенный час новая гостья поднималась вместе со мною по лестнице вдоль наружной стены в общежитии писателей на улице Карла Маркса, 7. На каждой ступеньке Нечкина объясняла мне, как она любит Ахматову. На площадке объяснила, что от волнения не откроет рта. Когда я постучала в дверь, она перекрестилась. Поздоровавшись, села и замолчала, словно каменная. Хозяйке едва удавалось извлекать из нее «да» и «нет». Наконец, Анна Андреевна спросила у Милицы Васильевны, над чем она сейчас работает. Тогда в Нечкиной – наверное тоже от смущения! – проснулся историк, доктор наук, профессор: она открыла рот и не закрывала его 50 минут, полный академический час; по новонайденным материалам прочитала нам лекцию об одном декабристе, Трубецком или Оболенском, не помню. Кончив, встала, объявила, что ей пора, простилась и вышла. «Я вижу, меня из этого города без высшего образования не выпустят», – сказала мне Анна Андреевна, когда за гостьей закрылась дверь[2].
Впоследствии знакомство между Ахматовой и Нечкиной наладилось, упрочилось, они, помнится, бывали друг у друга, но первая встреча была вот такая.)
Я смеялась.
– Вы не пугайтесь, – сказала мне серьезным голосом Анна Андреевна. – Гоголь, Нечкина, Толстой, Достоевский… Это я только для первого раза. В следующий раз такого не будет.
Я спросила, нравится ли ей Гюго, которого она сейчас переводит.
– Ах, так вам еще не хватает Гюго?.. Пожалуйста: плох необыкновенно. Напыщен, трескуч, риторичен.
– А сами-то французы его любят?
– Да. Очень. Когда у одного француза спросили, кто лучший поэт Франции, он ответил: «Hugo, helas!» И это, разумеется, не соответствует истине: взять хотя бы Верлена, он в двадцать раз лучше.
Мы вернулись в маленькую комнату, где Анна Андреевна чувствовала себя, мне показалось, более дома. Тут она стала рассказывать мне о Борисе Леонидовиче и, как и в прежние годы, говорила о нем с восхищением и в то же время с какой-то нежной насмешкой. С восхищением – понятно, речь ведь идет о чуде; с нежностью – потому что о друге; а с насмешкой, я так понимаю, потому, что в насмешке легче спрятать нежность.
– Он вам никогда не рассказывал, как впервые видел Толстого? Нет? Бореньке было три года. Он спал. И вдруг проснулся у себя в кроватке, разбуженный дивной музыкой. Слушал, слушал и заплакал. Вылез из кровати и заглянул в соседнюю комнату: мать за роялем, а рядом сидит старик, слушает музыку и плачет. Это был Толстой. Молодец Борька – знал, когда проснуться, не правда ли?
Я попрощалась. Анна Андреевна, помня мою близорукость, вышла со мною на площадку и подробно объяснила, какие ступени на лестнице самые коварно-косые. Пока я шла вниз, она стояла на площадке, опершись о перила.
– Теперь вам осталась только Вечная Лужа, – сказала она, когда я добралась до низу. – Держитесь правой стенки. Спокойной ночи.
1 августа 52 На днях вечером, вернувшись из Ленинской библиотеки, я нашла у себя на бюро записку от Корнея Ивановича:
«Тебе звонила Ахматова и просила позвонить».
В тот же вечер я была у нее.
Анна Андреевна неподвижно лежит на спине, вытянув руки вдоль тела. Сердце. Не звонила она мне долгое время потому, что жила у Шервинских в Старках2. Там чувствовала себя хорошо, а здесь, в Москве, ее мучает жара.
– У Чехова… которого, как вы помните, я не люблю… – начала она, – есть один рассказ… про мальчика Егорушку. Его куда-то везут. Очень долго везут.
– «Степь», – сказала я, насторожившись. (Чехов – наш постоянный старый спор.)
– Да, «Степь». По-моему, это очерк, но почему-то называется рассказ или даже повесть. Так вот, там описана жара, пыль, а потом говорится, что вдруг в жаре будто ниточка прохлады протянулась…3 Цимлянское море – как раз в тех местах, можете себе представить, какая там теперь прохлада!4
Спор не возобновился. Пусть очерк. Речь шла не о Чехове, а о жаре.
В комнате было душно, как в шкафу. Я предложила открыть окно.
– Нельзя. Играют.
Я все-таки приоткрыла на секунду одну половинку и выглянула. Под самым окном пенсионеры на лавочке с бешеной бранью забивали «козла».
Анна Андреевна, стараясь двигаться как можно осторожнее, достала из-под подушки сумку, из сумки листок и прочитала мне подстрочник одного маленького стихотворения. Якутский поэт. О тайге.
– Слышите – какая наивность, сила, не знаю, удастся ли мне. А остальные у него, кажется, плохи[3].
Потом прочитала уже готовый свой перевод из Гюго. Восточное любовное прощание. Александрийский стих, великолепная, мощная поступь стиха, все как следует – но Боже мой, какое пустозвонство! Рассудочно, холодно, пышно – не для меня. И главное, не для нее[4].
Прочла наизусть перевод маленького стихотворения Нерис – трогательного, пожалуй.
– У Саломеи, может быть, встречаются стихи и с длинными строчками, – объяснила Анна Андреевна – но мне не повезло, попались все с короткими, а это очень трудно[5].
Наступило очередное долгое молчание. Я рискнула попросить ее прочесть что-нибудь свое.
– В другой раз, – ответила она. – Я не люблю читать свое вместе с переводами. В другой раз буду вам читать целый вечер.
Но все-таки произнесла четыре собственные строчки о Волге и Доне, написанные, по ее словам, года два назад[6]. Потом рассказала, что один молодой человек, с которым она поделилась своей догадкой о Бенкендорфе в «Шинели», взял да и вставил эту новость в свою работу.
– И, подумайте, пришел ко мне и сам же прочел! Быть может, по молодости лет он просто не знает, что излагать в своих работах чужие мысли не принято? Статья его скоро идет в печать.
Я предложила напустить на молодого человека кого-нибудь из старых, чтобы те ему объяснили. Но Анна Андреевна не согласилась.
– Ну нет, я так не работаю. А то, знаете, есть такая игрушка: кажется, будто обыкновенный пень, а подойдешь поближе – оттуда выскакивает страшная сова.
С трудом, медленно повернувшись на бок, она протянула руку к тумбочке и взяла однотомник Пушкина. Поискала там какое-то стихотворение, устала, не нашла и велела искать мне: 1830 год, неоконченный отрывок, во второй половине брусника, тундра, остров. Я нашла. Она попросила прочесть его вслух. Начинается строчками:
В 1953 г. в Гослитиздате вышла книжка литовской поэтессы Саломеи Нерис (1904–1947) – «Стихотворения и поэмы». В этом сборнике переводы двенадцати стихотворений и отрывка из одной поэмы принадлежат Анне Ахматовой.
Какие именно четыре строчки она прочитала мне – не могу ни вспомнить, ни догадаться.