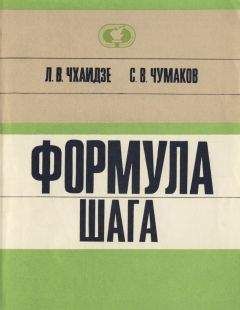Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний
Но вот была ли эта мысль вполне марксистско — ленинской?
Право же, как говорят в стране, где я сейчас живу, — a good question, хороший вопрос.
С марксизмом все непросто. Известно, сколько марксистских церквей и деноминаций расплодилось уже к рубежу шестидесятых и семидесятых годов. Вынесенная в заголовок связка «марксистско — ленинская» указывала на определенный вариант учения. Однако тут была некая хитрость. Учебник «не — марксистско — ленинской» эстетики в это время и в этом месте не мог быть издан. Но то, что было под обложкой, Ленин вряд ли одобрил бы — он на этот счет был строг. Подозреваю, что ему не пришлась бы по душе философская теория ценностей, введенная в советский теоретический обиход в начале шестидесятых годов. Вряд ли он принял бы на марксистское вооружение и общую теорию систем, которая в те же шестидесятые стала новым и увлекательным методом философствования. Между тем, оба подхода составили реальную основу кагановских «Лекций».
Понятие ценности позволило ему выйти за пределы предшествующих споров о природе эстетического и выстроить логически стройный порядок главных эстетических категорий. Еще интересней оказалось обращение к системному мышлению. Он признал одновременную правоту различных пониманий искусства, которые десятилетиями, если не столетиями, разделяли главные школы эстетической мысли. Но объединение нескольких наиболее распространенных определений искусства не стало эмпирическим — или эклектическим? — рядоположением, но системой взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Система оказалась чрезвычайно перспективной, не случайно ее графическое изображение, «кагановская пятичленка», было помещено на обложках двух его итоговых книг — юбилейного сборника статей 1991 года и обобщающей работы, изданной спустя три года в Германии[56].
В этом месте повествователя подстерегает искушение углубиться в суть дела и пересказать то, что в идеях Кагана представляется ему главным. Но я все‑таки не поддамся. Книги его всем доступны, и лучше уж обратиться к оригинальному изложению, нежели довольствоваться бедным пересказом. И вообще здесь не место для научно — популярных переложений, мне хочется говорить о личности.
В те годы, когда выстроенная (он бы сказал — «открытая» или «вскрытая») им структура показала свою порождающую способность, у него, я думаю, возникало чувство творческой окрыленности. В каждом направлении можно было прокладывать свою тропу. Система элементов и исполняемых ими функций, которая составляла феномен искусства, позволяла строить систему видов искусства так, что взамен традиционных перечислений возникали стройные функциональные спектры, — и в 1972 году появилась фундаментальная «Морфология искусства»[57]. Выделенная в отдельный блок коммуникативная сторона художественной деятельности заставила задуматься о различиях между коммуникацией и общением — и, по — кагановски упорно вгрызаясь в тему, он пишет книгу о межчеловеческом общении.
Наконец, вся пятиместная схема наводит на мысль о структуре человеческой деятельности. Оказывается, что ее исходный четырехместный каркас удачно изображает главные и системно взаимосвязанные аспекты человеческой активности — и вот уже созревает соответствующая книга нешуточного размаха: «Человеческая деятельность». Тезис, найденный и зафиксированный в одном сочинении, оказывается опорой для развернутого исследования в следующем, архитектоника системы проявляется и усложняется одновременно, чертеж свода, нарисованный однажды мимоходом, в следующем цикле становится сводом, ярус возводится над ярусом, с каждым шагом расширяется поле философского зрения.
…Как‑то мы вместе были в Москве — то ли конференция, то ли симпозиум, много их было, никак не припомню, что за ученое событие привлекло нас в тот раз. Мы вышли после окончания заседания с мыслью где‑нибудь перекусить. С нами выходят два московских профессора, известные в те времена специалисты по культуре. Они беседуют более между собой, мы пассивно участвуем в разговоре, и тут Мика вдруг им говорит:
— А знаете, друзья, я ведь выхожу на культуру.
В этом «выхожу на культуру» чуткое ухо могло услышать нечто помимо прямого значения — то, что за текстом. Я думаю, что он в ту минуту спонтанно выражал переживание интеллектуального полета, видение ландшафтов подлежащей новому, персональному освоению ойкумены, ощущение играющей интеллектуальной силы, способной это сделать. «Выхожу на культуру» — подобно тому как боевой летчик говорит в микрофон: «выхожу на цель».
Столичные культурологи, в полном сознании своих прав на домен, не обратили внимания на слова ленинградского эстетика. И зря. То, что он напишет, будет куда интересней их собственных сочинений. Я знаю, о ком говорю.
В 1996 году увидит свет фундаментальная «Философия культуры», а затем — двухтомное «Введение в историю мировой культуры», которое, на мой взгляд, занимает особое место среди его поздних работ.
* * *
Так вот, о выборе на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов.
Лешек Колаковский в своем монументальном трехтомнике «Основные течения в марксизме» уделил марксизму постсталинского периода в Восточной Европе ничтожную долю труда, едва превосходящую по объему параграфы о сотериологии Плотина и христианском неоплатонизме как дальних истоках марксова учения. Более пристальное историческое разглядывание сюжета не сможет миновать эволюцию кагановского философствования — это одно из течений, характеризующих эпоху постсталинизма на родине сталинизма. Не знаю, составлена ли диаграмма метаморфоз интеллигентского сознания в период от XX съезда и до путинских времен (название условное, трудно определить это состояние отвердения и сверхтекучести одновременно). Вероятно, составлена, за всем не уследишь. Если составлена, то там, в пестром плетении линий, можно найти на редкость причудливые кривые. На их фоне график изменений кагановской философской позиции выглядит относительно простым и последовательным. Будучи мишенью монопольных носителей марксизма, он сам, тем не менее, долгое время считал себя марксистом и вправду старался им быть. Я мог бы, модной красоты ради, промолчать об этом. Но иконопись мне плохо дается, куда интересней реальная личность. Да и вообще — нужды нет.
Я знаю многих, кто не прощал ему его позднего марксизма, я и сам не раз отчаянно спорил с ним. Теперь спор больше не актуален, пришла пора понимать и, если удастся, объяснять. Вообще‑то, я понимал, в чем дело, и раньше, но злоба дня возбуждает и понуждает к прозелитизму. Хотелось обратить его в свою веру. Или в свое неверие. В чем я не преуспел нисколько.