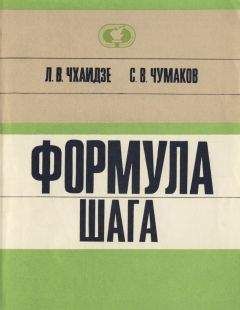Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний
Вот эту простую истину, ставшую неопровержимой после того, как она была раскрыта тов. Сталиным, Каган постарался ревизовать. Метод его критики тоже представлял собой двуединство, но совсем других начал — талмудического и логического. Талмудическое шло от времени, без него тогда обойтись было немыслимо, логическое было от Кагана. Сначала выступавший указал, что у тов. Сталина нигде не сказано об искусстве, социалистическом по содержанию и национальном по форме. Сказано это о культуре; искусство, конечно, составляет часть культуры, но ей не тождественно. Наука, скажем, принадлежит культуре, но нет национального по форме бинома Ньютона. И вообще, сказано было у классика в другом месте: «социалистическая по форме, т. е. по языку». И т. д.
Затем, в логической части, формула, уже целиком, была превращена в руины. Исходя из других незыблемых марксистских тезисов — о единстве формы и содержания и о безусловном примате содержания — выступавший показал, что в форме не может быть ничего такого, что не было бы задано содержанием, иначе окажется, что у формы, помимо содержания, есть еще некое параллельное содержание, чего быть не может! Следовательно, диалектика национального и интернационального присуща самому содержанию и получает выражение в форме.
Те, кому эти рассуждения покажутся схоластическими, смешными, не имеющими отношения к делу и проч., могут их забыть. В советской аудитории февраля 1956 года каждый нюанс такого рода был полон значения, и я мог бы рассказать почему. Но не знаю, буду ли понят. Скажу одно — реабилитация национального начала в художественном содержании влекла за собою санкцию национального сознания, нестерпимого для имперской системы. Отчасти поэтому, а отчасти от наслаждения самим актом развенчания догмы зал возликовал. Каган мгновенно стал безусловным авторитетом, художники наперебой звали его в мастерские в надежде, что он сию минуту научит их, как писать, кто‑то задавал ему философические вопросы самого разного свойства, желая получить немедленные и последние разъяснения…
Мика на всю жизнь сохранил теплую привязанность к Грузии. Он дружил с грузинскими художниками и философами. Он любил посещать Грузию и летал туда при любой возможности. Он издал альбом, посвященный творчеству Ладо Гудиашвили. Он быстро овладел грузинским искусством ведения стола и стал блистательным тамадой — чужаком, любителем, превзошедшим почвенных профессионалов. Я подозреваю, что, помимо всех прочих причин, Мика любил в Грузии место своего первого триумфа, поле выигранной битвы.
Пока мы на свой манер решали проблемы советского искусствознания и критики, в Москве созвали очередной съезд партии. Следить за газетами было не с руки, жизнь в Тбилиси была куда интересней. Чего стоил один визит к Ладо, живому художнику вне соцреализма, прошедшему некогда парижскую школу и оставшемуся грузином, писавшему обворожительных — полнотелых и обнаженных! — грузинских красавиц и всякие фантастические сцены, и это на пороге весны тысяча девятьсот пятьдесят шестого года!
После осмотра картин гости были приглашены к столу.
— Дорогой Моисей! — восклицает признанный чемпион тамадизма, скульптор Морис Талаквадзе, — ты сегодня герой и победитель, алаверды к тебе! Разрешаю тебе выступать бэз утвержденных тезисов!
Мика медленно поднимается, обдумывая тост.
— Что молчишь? — молниеносно реагирует Морис. — Не привык бэз утвержденных тезисов, да?
Тостирование по кругу, доходит очередь до меня.
— Дорогой Борис! Грузинский народ, эстонский народ далеко — но мы братья!
Прожив в Эстонии к тому времени четыре с небольшим года и не будучи, что очевидно, эстонцем, я начинаю по — честному мямлить, что я, мол, не принимаю тост на свой счет, а отношу его на счет республики…
— Нэт, — перебивает Морис, — ты неправ! Я за культ личности! Я не согласен с товарищем Марксом по двум вопросам — по вопросу о культе личности и по вопросу о расценках на художественные произведения…
— Морис, у Маркса про расценки не написано!
— Я не знаю. Мне говорят, что это марксистские расценки…
Вопрос о расценках на художественные произведения остается запутанным по сей день. Вопрос о культе личности как раз в то время получил неожиданный оборот.
Вернувшись в Москву, мы услыхали про тайный доклад Хрущева.
* * *
Наступило время выбора.
Я говорю не о свободе выбора, но только о возможности выбора. Да и с нею еще предстояло освоиться. Некоторые из будущих диссидентов разных направлений во второй половине пятидесятых были секретарями комсомольских организаций и партийными активистами. Взращивание внутренней свободы — занятие деликатное и трудоемкое, индивидуальное и не свободное от внешних условий.
В середине шестидесятых годов вышло отдельными выпусками первое издание кагановских «Лекций по марксистско — ленинской эстетике», затем, в 1971–м, — второе, отдельной толстой книгой. В списке рекомендованного чтения по курсу эстетики я долго ставил эту книгу на обязательное первое место — отнюдь не потому, что был дружен с автором. «Лекции» радикально отличались от прочей учебной литературы по эстетике, доступной отечественному студенту — гуманитарию.
Издания, претендовавшие на роль учебников эстетики, стали появляться уже в начале шестидесятых годов. Самой фундаментальной и самой официальной была толстая книга, коллективный труд, с классическим для тех времен названием «Основы марксистско — ленинской эстетики» (правильно, везде преподавались «Основы марксизма — ленинизма», главное — заложить добротный фундамент). Официальный статус основополагающего учебника обязывал к отсутствию какой бы то ни было проблемности. Авторы его были озабочены более всего тем, как бы не сказать что‑либо определенное: доктринальные банальности, механическое суммирование тем, ничего не говорящие перечисления… Если принять во внимание внушительный объем учебника, легко заключить, что авторы справились с основной задачей успешно. Заставлять студентов читать этот том было стыдно. Да я и не заставлял.
Когда вышел в свет немецкий перевод кагановских «Лекций», западногерманская — тогда еще западногерманская — печать отозвалась на них словами о марксистской эстетике с человеческим лицом. Верно. При этом ударение следует сделать на каждом из двух последних слов. Прежде всего — у книги было лицо. Все, что автор имел сказать — а имел он сказать многое, курс был выношен, формировался и трансформировался в течение долгих лет — все это было внятно артикулировано, логически упорядочено и систематически изложено. Это была система эстетики, как ее понимал и выстраивал этот автор, Моисей Каган. И лицо было действительно человеческое. Не каменное лицо, не знающее иного выражения, кроме стиснутых челюстей, могучих желваков и грозно сощуренных глаз, а человеческое, светящееся мыслью.