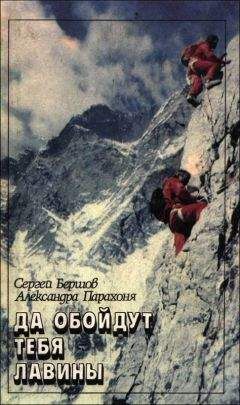Арман Лану - Здравствуйте, Эмиль Золя!
— Синдикат расширяется! — бросает Клемансо, парирующий все выпады.
Оскар Уайльд, проезжая через Париж под именем Мельмота, напомаженный, накрашенный, с цветком в петлице, встречается с Эстергази. Шпион очаровывает англичанина. Но вдруг Уайльд роняет:
— В Берлине, в военном министерстве, имеются сотни писем, написанных вашей рукой. Вы не боитесь, что когда-нибудь это выплывет наружу?
Эстергази оцепенел. Он не учел могущества голубого интернационала[163], который гораздо более причастен к Делу, чем все думают: например, военные атташе Шварцкоппен и Паниццарди были членами этой «корпорации», чем и объясняются употребляемые ими в качестве псевдонимов женские имена.
Нерешительность властей, потрясенных выступлением Золя, растерянность самих дрейфусаров, тактика которых подвергается ожесточенным нападкам памфлетистов — все это только усиливает смятение. Жюль Герен, главный представитель Лиги антисемитов Франции, мобилизует свои банды. В Алжире громят еврейские кладбища. Обезумевший от злобы Дрюмон пишет подстрекательские статьи: «Народ знает, что зачинщик всех гнусностей, вдохновитель всех козней, разносчик всяческой грязи — еврей… Почему человек, заклейменный позорной кличкой, почему хам и сноб, почему немец, англичанин, итальянец, словом, любой, чужеземец и метис — почему все они за Дрейфуса?» Льются потоки немыслимых поношений. Ну как же! Шерер-Кестнер — актер из мелодрамы, старый лицемер, умственно неполноценный тип. Ленин, еще недавно бывший префектом полиции, — провокатор. Генерал Бильо — «генерал и нашим и вашим».
Кроткая Жил (писательница Сибилла-Габриэль-Мария-Антуанетта де Рикетти де Мирабо, графиня де Мартель де Жанвиль, известная под этим псевдонимом), опубликовавшая несколько лет назад премилую вещицу «Замужество Тряпичной Души», тоже включается в травлю: «Герр Золя, герр Рейнах и золяфилы»; у «еврейского гаденыша» Жозефа Рейнаха — «гнусная морда талмудиста»; фон Рейнах, или иначе «Свиное Ухо». Что же касается Золя, то в промежутках между его двумя призывами ему советуют осознать свои заблуждения, обзывают его «очаровательной кучей дерьма, генуэзцем, Золя-тряпичником, великим ассенизатором, гнусным подонком, сутенером девки Нана, Золя-Разгромом, франфилером, папашей-мокрицей» и предсказывают, что он кончит жизнь (если только не раскается — еще есть время!) «в состоянии копрофагии». Чудовищная угроза: «Готовьте виселицы для Израиля!»
Накануне процесса, о котором мечтал Золя, Дрюмон выпускает воззвание:
«Ходят слухи, что для воздействия на судей готовятся манифестации в защиту сторонников предателя, которые будут происходить на улицах и даже в помещении суда. Манифестации эти организуются на еврейские деньги, награбленные за двадцать лет безнаказанного обирательства французов… А сегодня эти же агенты, эти же закоренелые преступники измышляют всяческие махинации, чтобы нарушить общественное спокойствие и повлиять на совесть судей. Жители Парижа, честные патриоты не потерпят подобных провокаций. Они сами выполнят функции полиции».
Вот в такой обстановке судейский чиновник произнесет бесстрастное «Суд идет!», открывая этим первый акт судебной драмы.
В ту пору Шарль Пеги нанес визит Золя.
«Я никогда не видел его прежде. Это было смутное время, и мне хотелось самому познакомиться с человеком, взвалившим на свои плечи такую ответственность, и получить собственное впечатление от встречи с Золя. Я увидел не буржуа, а хмурого крестьянина, постаревшего, поседевшего, с утомленным лицом, погруженного в свои мысли „литературного пахаря“, крепкого, плотного, с сильными, покатыми плечами, похожими на романские своды. Небольшого роста, не толстый — настоящий крестьянин из центральных районов Франции. Казалось, этот крестьянин просто вышел на порог своего дома, заслышав шум колес проезжающего мимо экипажа. Приземистый. Усталый. Он обнаружил… удивительную свежесть восприятия и удивлялся тому, что люди поступают некрасиво, гадко, непорядочно… Он признался мне, что его огорчают социалисты, бросившие на произвол судьбы немногочисленных защитников справедливости. Он подразумевал большинство депутатов, журналистов, главарей социалистов. Кроме них, он никого не знал. Я отвечал ему, что те, кто его покинул, ни в коей мере не являются представителями — социализма. „Я получил много писем от парижских рабочих, — сказал он. — Одно письмо просто запало мне в душу. Рабочие — славные люди. Что заставляет их пить и доводит до такого состояния?“»
Этот портрет бесценен.
До сих пор дрейфуеары, бездеятельные из-за своей робости, вели довольно неумелую борьбу, пытаясь усилить свое влияние при помощи туманных угроз и загадочных сообщений в маленьких газетных заметках. Такая тактика, имевшая целью заставить призадуматься Генеральный Штаб, не называя его прямо, только лишь раздражала общественное мнение. Ударом кулака Эмиль Золя произвел тактическую революцию.
Так восприняли его письмо все бывшие в курсе дела современники.
В декабре 1897 года молодой Леон Блюм часто навещал Барреса, который впоследствии признавался ему: «Вам была по душе моя молодость, и она отвечала вам тем же…». Блюм не сомневался, что Баррес примет сторону дрейфусаров: вся жизнь писателя давала основание для подобного предположения.
— Я более или менее во всем осведомлен, — ответил Баррес Блюму, — я еще никогда не встречался с Золя так часто, как в последнее время. Несколько дней назад я завтракал с ним. Золя — смелый человек. Настоящий мужчина. Но почему он не говорит всего, что ему известно? И, в сущности, что ему известно? Меня преследует одно воспоминание. Три года назад я присутствовал при церемонии разжалования Дрейфуса. И вот теперь я задаю себе вопрос — не ошибся ли я? Сейчас мне кажется, что поведение этого человека, которое я воспринимал как проявление полнейшей, законченной подлости, могло означать совершенно обратное. Кем же был Дрейфус — негодяем, стоиком или мучеником?
— Значит, — сказал Леон Блюм, — вы…
— Нет, нет!.. Я взволнован, я хочу подумать. Я вам напишу.
Баррес написал Блюму, что он уважает Золя, но не считает истину доказанной, что намеренные недомолвки дрейфусаров только раздражают его и что в своем решении стать на чью-либо сторону он будет полагаться на свое собственное национальное чутье.
Вскоре, обращаясь в печати непосредственно к Золя, он написал: «Между Вами и мной лежит рубеж».
Власти, возмущенные письмом Золя не меньше, чем дрейфусары оправданием Эстергази, прибегают к уверткам. Феликс Фор приходит в ярость. Генеральный штаб перефразирует слова Золя: «Они посмели!» Волей-неволей штабу приходится перенести борьбу в гражданскую сферу, то есть туда, куда хотел Золя, и это удалось писателю благодаря ловкому маневру и безупречному политическому чутью. В Бурбонском дворце главарь правых, граф Альбер де Мён, заявляет: «Терпение армии лопнуло!» Мелину, старому товарищу Золя и Клемансо по газете «Травай», «осторожному, как Нестор», не хотелось бы привлекать Золя к суду. Генерал Бильо, который тоже предпочел бы закрыть глаза на это выступление писателя, утверждает, что обвинения, выдвинутые Золя, не могут запятнать честь армии. Однако граф де Мён резко замечает: