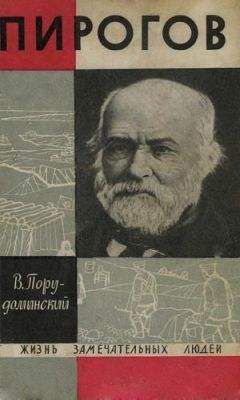Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача
Число русских, посылаемых для подготовки на два, на три года из наших университетов в Дерптский, определялось 20–ю.
После двухлетнего пребывания в Дерпте они должны были отправляться еще на два года в заграничные университеты и потом прослужить известное число лет профессорами в ведомстве министерства народного просвещения. Содержание в Дерпте назначалось в 1200 руб[лей] ас — сигн[ациями] ежегодно (несколько более 300 руб[лей] сер[ебром]); на путевые издержки полагалась тоже особая сумма. Молодые люди разных университетов, собранные в С. — Петербурге, должны были по прибытии в С. — Петербург, подвергнуться предварительному еще испытанию в Академии наук.
Я начал готовиться к лекарскому экзамену. Он прошел очень легко для меня, даже легче обыкновенного, весьма поверхностного, может быть, потому, что мое назначение в кандидаты профессорского института считалось уже эквивалентом лекарского испытания.
Что же я вез с собою в Дерпт?
Как видно, весьма ничтожный запас сведений и сведений более книжных, тетрадочных, а не наглядных, не приобретенных под руководством опыта и наблюдения. Да и эти книжные сведения не могли быть сколько — нибудь удовлетворительны, так как я в течение всего университетского курса не прочел ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется, от доски до доски, а только урывками, становясь в пень пред непонятными местами; а понять много без руководства я и не мог.
Хорош я был лекарь с моим дипломом, дававшим мне право на жизнь и смерть, не видав ни однажды тифозного больного, не имев ни разу ланцета в руках! Вся моя медицинская практика в клинике ограничивалась тем, что я написал одну историю болезни, видев только однажды моего больного в клинике, и для ясности прибавив в эту историю такую массу вычитанных из книг припадков, что она поневоле из истории превратилась в сказку.
Поликлиники и частной практики для медицинских студентов того времени вовсе не существовало, и меня только однажды случайно пригласили к одному проживавшему в одном с нами доме больному чиновнику. Он лежал уже, должно быть, в агонии, когда мне предлагали вылечить его от последствий жестокого и продолжительного запоя. Видя мою несостоятельность, я, первое дело, счел необходимым послать тот
час же за цирюльником; он тотчас явился, принеся с собою на всякий случай и клистирную трубку. Собственно я и сам не знал, для чего я пригласил цирюльника; но он знал уже par distance(На расстоянии (франц.)), что нужен клистир и, раскусив тотчас же, с кем имеет дело, объявил мне прямо и твердо, что тут без клистира дело не обойдется.
— Пощупайте сами живот хорошенько, если мне не верите, — утверждал он, отведя меня в сторону, — ведь он так вздут, что лопнуть может.
Я, пощупав живот, тотчас же одобрил намерение моего, мною же импровизированного коллеги. Дело было ночью; что произошло потом с клистиром не помню; но помню, что больного к утру не было уже на свете.
В благодарность за мои труды вдова прислала мне черный фрак покойного, в который могли бы влезть двое таких, каков я. Этот незаслуженный гонорар был очень кстати; переделанный портным, полагавшим, что я еду открывать острова и земли, фрак этот поехал со мной и в Дерпт и прожил со мною еще и там целых пять лет.
Второй и последний случай моей частной практической деятельности в Москве был тоже такой, в котором клистир играл главную роль.
Заболела весьма серьезно чем — то, не знаю, моя старая нянька, Катерина Михайловна; помню, лежит, не двигается, стонет, говорит: «Умираю»; не ест, не пьет, не испражняется, не спит, все стонет. Не знаю, что ей там давали из домашних средств, только помощи не было; проходит неделя, другая, — все то же; старуха исхудала, пожелтела, очевидно плохое дело. Мне ее ужасно жалко, хотелось бы помочь, но чем руководствоваться? А вот постой, думаю, ведь она не ходит на низ целых 10–12 дней: дай, поставлю ей клистир.
Предлагаю на обсуждение мой проект моим домашним и самой больной.
— Да, батюшка мой, ведь я ничего не ем, не пью, почти две недели у меня крохи во рту не было.
— Нужды нет, все — таки поставим.
— Да как же это? Да кто же поставит? Да где же взять?
— Не беспокойся.
И вот я достаю трубку, варю ромашку с мылом и постным маслом, надеваю преважно фартук, поворачиваю старуху на левый бок и в первый раз в жизни ставлю клистир самоучкою.
Все обошлось благополучно. Клистир вышел потом не один, и — кто мог думать! — моя старая няня с этого же дня начала поправляться, спать, кушать, а дней через 10 была уже на ногах. Вот что значит искренняя любовь и привязанность, руководившие мной в первый раз в жизни и в диагнозе, и в терапии, и в хирургическом пособии при постели больной!
Моя нравственная сторона ехала из Москвы в Дерпт так же мало культивированною, как и научная.
Моя детская вера была потрясена тем слабым знанием, которое я приобрел в университете. Почему же это могло случиться с таким бед —.
ным и малообразованным школьником, каким я был, тогда как величайшие и светлые умы, обогащенные громадными сведениями, нередко соединяли в себе глубокое знание с искреннею верою? То, я полагаю, болезнь нашего века, в котором немного найдется таких исключений, как Иоганн Мюллер или Рудольф Вагнер; первый — ревностный католик, второй — протестант, и оба знаменитые естествоиспытатели, успевшие и в наше время примирить знание с верою. Эта болезнь нашего века зависит, я полагаю, оттого, что именно в наше время знание, и, конечно, поверхностное, быстро распространилось в массах, недовольно подготовленных к восприятию науки и знания предшествовавшими веками.
Яркий свет современной науки ослепил и вскружил голову ходившим прежде в потемках. Вышедшему быстро из потемок на свет, с первого взгляда, покажется все, конечно, слишком ясным и потому несомненным; а тут являются еще и просветители, которые для эффекта, подпускают все более и более света, хотя бы и искусственного.
Если я, возвращаясь теперь к моему давнопрошедшему, только подумаю, что заставило меня покинуть мои детские верования, что заставило перестать молиться с детским усердием, что внесло в молодую душу разъедающий червь сомнения и способствовало с необыкновенным усердием его дальнейшему развитию, то я не нахожу другой причины, как именно эти две. С одной стороны, меня озарил вдруг свет естествознания, тогда как я не был подготовлен к его принятию никаким другим положительным знанием, а просветителями моими оказались люди, так же, как и я сам, ослепленные слишком быстрым переходом от тьмы неведения к свету науки. Не мучимый никакими сомнениями и при моем обрядно — религиозном воспитании не имевший даже почвы для сомнения, я вдруг выступил на поприще, требовавшее постоянной работы мысли. А все приобретаемое умственным анализом неминуемо проходит чрез целый ряд сомнений. Мог ли же я, мальчишка, не вскружить себе голову, не охмелеть и не перенести тот же самый способ достижения истины и на другую, для него вовсе непригодную почву? Я видел, что так делают все и более опытные меня.