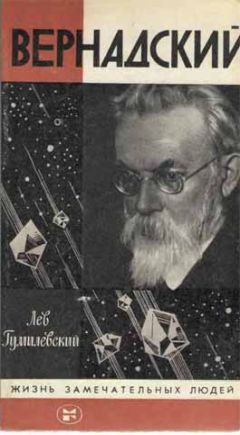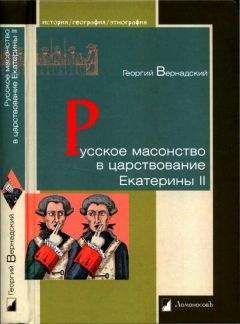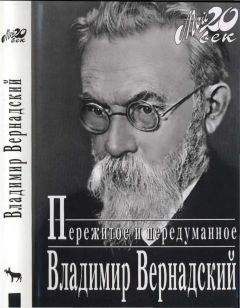Геннадий Аксенов - Вернадский
Париж — знакомый незнакомец. И, конечно, первое, что бросилось в глаза: эмиграция из России. Драма русских изгнанников состояла не только в катастрофе на родине, но и в вековой французской ориентации всей культуры, из-за чего все знают только этот язык. Самая большая интеллигентная и военная колония — здесь. Русские на каждом шагу. Издаются русские газеты, журналы, собираются политические и иные съезды. Еще сохраняются партии, произносятся речи. Люди как бы не остыли от борьбы и мечтают о ее возобновлении. Однажды и он получил приглашение на заседание кадетской партии, но решительно отказался. Он сжег все мосты и не видит смысла возвращаться в политику. Социальная борьба — царство третьего и четвертого апостолов веры, где все самые лучшие и чистые стремления быстро покрываются грязью, опошляются и превращаются часто в свою противоположность, — теперь не для него. Разве не идеальные стремления социалистов к справедливости открыли клапаны дикого разгула и грабежа?
Нет, для него лично отныне — только наука. Так он больше сделает для страны.
А потом, эмиграция есть эмиграция. При всем сочувствии к многим здешним знакомым, при всех личных отношениях надо принимать реальность, которая заключается в том, что центр русской жизни — не здесь. Его не принесли с собой тысячи лучших и честных людей на своих башмаках. Россия осталась в России. Какая ни есть, она будет делаться там, творчеством образованных людей.
Создан поистине страшный режим. Как ни противно, но приходится сотрудничать с ним, а не с эмиграцией. В дневнике 9 ноября 1922 года много сведений от очевидца о научных новостях из России, о закрытии научных обществ, об университетах, в том числе и в Симферополе (работает только А. Г. Гурвич), о высылке философов и ученых, о положении на Украине и обобщение: «Научная работа в России идет, несмотря ни на что. <…>
Очень интересно это столкновение — частью поддержка, частью гонение — научной работы в Советской России. Сейчас должна начаться идейная защита науки — но и наука должна брать все, что может и от своих врагов, какими являются комунисты.
Может ли развиваться свободная научная работа вообще во всяком социалистическом государстве?
Говорят (вероятно, в эмигрантской печати. — Г. А.) о том, что сейчас реакция движется “вправо” — но куда идти “вправо”, идти дальше в существующей реакции с точки зрения свободной научно творящей человеческой личности? Сейчас нет свободы слова и печати, нет свободы научного искания, нет самоуправления, нет не только политических, но даже и гражданских прав. Нет элементов уважения и обеспеченности личности. Худшее, что может быть — сохранение режима при замене советских “Правды” и “Известий” — “Новым временем” или “Колоколом”, насилия комунистов — Союзом русского народа — но это безразлично. Даже в последнем случае гражданские права упрочатся»7.
Он чувствует себя иногда лазутчиком в большевистской стране. Скрываться и зашифровывать свои произведения особенно нет нужды, ибо его научные идеи и язык им недоступны. Значит, пока сохраняется этот режим, нужно блюсти профессиональную честь и творить недоступные им духовные ценности. Впрок.
Усилия кадетской эмиграции в политической области благородны, но обречены. Дневник 1 марта 1923 года: «Статья Милюкова о монархии и республике в “Последних новостях”. Схоластический спор, далекий от жизни. Демократия, монархия — все это сейчас получило другой смысл. Кто верит этим формам жизни как формам? Важно содержание: свобода слова, мысли, веры. Обеспечение личности, собственности — как необходимое условие защиты личности. Работа культурная. Работа над будущим человечества: организация знаний. Это может быть при любой форме. Кто сейчас может дать больше? Царь или “республика”? Важно, чтобы мысль молодежи и других направлялась на содержание, а не на форму»8.
С Милюковым виделся несколько раз, но политические вопросы не обсуждались. Виделись по-дружески, «старая с молодости связь не порвалась», как он писал.
Из всей новой эмиграции он больше всего хотел бы увидеться с Иваном Ильичом Петрункевичем, для которого он чудесным образом воскрес из мертвых. Зимой 1921 года, когда Петрункевич жил в Америке у сына, преподавателя Йельского университета, он в отчаянии писал Федору Измайловичу Родичеву: «Имеете ли вы какие-нибудь сведения о Влад. Ивче Вернадском? В Нью-Гавен на днях приехал из Нью-Йорка помощник заведующего биологической станцией в Севастополе. <…> Вот этот г. Гольцов рассказывал нам, что в русском посольстве в Вашингтоне получено известие о расстреле Владимира Ивановича. Его образ с той поры не покидает меня. Я очень люблю его, даже больше, чем думал, только теперь это чувствую, и его умные глаза все время смотрят на меня, точно говорят мне: вот видите, я остался здесь, чтобы служить России и погиб… <…> Этот вопрос я читаю в его глядящих на меня глазах и мне бесконечно тяжело думать, что его уже нет»9.
Теперь они оба, и Иван Ильич, и Федор Измайлович, живут рядом, в Женеве и Лозанне. Очень хотел и даже готовился приехать к ним, но средств так и не нашел. Зато остались девять замечательных писем Вернадского к Петрункевичу, написанных из Франции и Германии. С ним обсуждает и ему объясняет свое неучастие в политике, которое основано на сознании, что гораздо важнее сейчас культурная и бытовая работа. Быт сильнее в борьбе против коммунистов, чем все заговоры, интервенции, которых к тому же нет, а есть «болтовня а la Милюков, Кускова и т. д.». Сил у эмиграции нет, идеалы многих чужды в современной русской среде. Как изменится власть — трудно сказать. Сохранится ли единство страны — тоже неизвестно. «А сила русская сейчас в творческой культурной работе — научной, художественной, религиозной, философской. Это единственная пока охрана и русского единства, и русской мощи»10.
Летом 1923 года в Париже побывал Ольденбург и по возвращении написал книгу «Европа в сумерках на пожарище войны. Впечатления от поездки в Германию, Англию и Францию летом 1923 года». Название для дорожных впечатлений и наблюдений не совсем соответствовало содержанию, надо сказать. По тексту никаких сумерек усмотреть нельзя. Наоборот, автор описывает определенное возрождение деловой жизни, улучшение образования и т. п. Название книге, вероятно, присвоено из конъюнктурных соображений (все-таки свойственных Ольденбургу) и одновременно с несомненной целью прохождения. Но в эмиграции не особенно разбирались в содержании. Во французских ученых кругах книга тоже вызвала неодобрение, даже скандал. Ольденбурга, а за ним и Ферсмана стали считать чуть ли не предателями и пособниками большевиков.