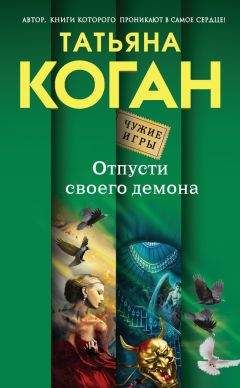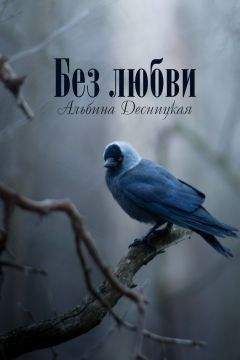Василий Зайцев - Подвиг 1972 № 06
И вот перед ним снова рисунки Сергея. Широкоплечий солдат замахнулся гранатой. Круглое неживое лицо, аккуратно отштрихованные карандашом тени, пулемет, изготовленный к бою, взвод на марше — вырисованы сапоги, а солдаты ходят в ботинках. Звездочки на пилотках. У крайнего в первой шеренге знакомое лицо Орехова.
На каждом рисунке старательность, та самая, которая выдает с головой. Хорошо рисовать, Сережа, это еще не значит быть художником.
Лист за листом переворачивал Барташов рисунки. Две хрупкие санитарки несут носилки. На них кто–то тяжелый, укрытый шинелью, пола которой свисает до земли…
И постепенно Петр Михайлович стал замечать, что с каждым новым листом исчезает в рисунках старательность, ученическое стремление вырисовать каждую деталь. Просторнее становились штрихи карандаша, смелее линии, глубже смысл рисунка. Майор больше не увидел ни одного листа с плакатными солдатами в начищенных сапогах, лихо размахивающих гранатами, нацеленных пулеметов и винтовок наперевес.
Зорче стали глаза Сергея. Рисунки теперь ощутимо показывали Петру Михайловичу, как день за днем мужал его сын, превращался из мальчика в мужчину. Он еще не тронул бритвой щек, но уже умел приметить горе, а сердце училось скорбеть и протестовать. На четвертушках ватмана все чаще вставала жизнь с ее большой и мудрой глубиной, которую можно высмотреть лишь обостренным взглядом, понять вдруг затосковавшим сердцем и осмыслить просторными штрихами карандаша…
Последний рисунок Петр Михайлович положил себе на колени, чтобы рассмотреть внимательнее, увидеть в нем главное.
Сергей нарисовал Кононова. Майор узнал усатое лицо пожилого сержанта, посланного Дремовым ему на помощь. Вспомнил, как умело пробирался сержант по «ничейной» земле, зорко примечая и выбоинки, в которых можно было укрыться, и предательские усики мин в рыжей траве.
На рисунке Кононов был другим. Он сидел на камне, расслабив плечи и почти до земли опустив руку, зажавшую кисет с махоркой.
Ощутимо была передана тяжесть плоского, с ребристым изломом камня, на котором сидел сержант, нависшая громада скалы за его спиной. Это дополняло, усиливало невидимый, непосильный человеку груз, под которым ссутулились плечи Кононова, поникла его голова. Казалось, он так беспредельно устал, что не в силах сделать больше ни одного движения. Уткнувшийся в землю взгляд, морщины на лбу, одним штрихом очерченный подбородок и забытый в руке кисет, украшенный незатейливым орнаментом. Рядом винтовка, неловко приткнутая к валуну.
Но широкая ладонь левой руки, положенная на колено, сохраняла силу. Большая ладонь с сеткой бугристых жил, с твердыми ногтями была нарисована тугой, неподатливой, упрямой. Глядя на нее, невольно думалось, что после недолгого солдатского перекура снова встанет сержант, расправит плечи, возьмет винтовку и пойдет дальше…
Петр Михайлович подумал, что теперь он сам бы настаивал, чтобы Сергей поступил в Суриковское.
Бережно сложив рисунки в бювар, он с хрустом застегнул застежку.
Потом поднял голову, увидел Дремова.
— Вещи возьму, — сказал он лейтенанту. — Позовите Орехова… Будем хоронить.
Глава 17. ЧАЙКИ
Сергея похоронили на склоне сопки. У подножия ее безымянное озеро плескало холодные воды. Над водой скользили чайки и кричали пронзительно и гортанно. Они прилетали с моря.
Небо было серое, плотно задернутое облаками. Порывистый ветер шевелил осоку, желтые хвосты ее заунывно шуршали. Уже мало осталось листьев на березках и ивах. Но пригоршни их все еще взлетали в воздух при каждом порыве ветра и рассыпались по камням. Где–то назойливо стучал пулемет. Внизу, возле землянки, укрытой под скалой, солдаты делили сухари. Они раскладывали их кучками на плащ–палатке. Сухарь за сухарем, половинку за половинкой, кусочек за кусочком. Кучки были ровные и справедливые, как солдатская жизнь.
К серым облакам взлетела ракета. Тревожная красная звездочка прочертила дугу и внезапно угасла.
Гроба не было, Орехов и Кононов подняли тело Сергея, спеленатое плащ–палаткой.
Майор Барташов стоял у изголовья могилы. Он чуть покачивался, как дерево под порывами ветра. Глаза были скрыты лакированным козырьком низко надвинутой парадной армейской фуражки с малиновым околышем. Иногда он тяжело переступал с ноги на ногу. Тогда под сапогами взвизгивала свежая щебенка.
Майор молчал. Только раз, когда Николай оступился и ноги Сергея слегка ударились о камень, Петр Михайлович сказал:
— Спокойно, Орехов… Не надо теперь торопиться.
Голос его звучал глухо, будто доносился откуда–то из подвала.
Тело послушно улеглось в неглубокую ямку. Стенки ее были в изломанных отблесках кварца.
Петр Михайлович вытащил из кармана суконную заношенную пилотку и положил ее на камень, под голову Сергея. Затем наскреб негнущимися пальцами пригоршню гранитной крошки и высыпал на грудь сына. Крошка осторожно зашуршала о брезент и собралась в овальной ложбинке. Там, где угадывались под палаткой сложенные накрест руки.
— Зарывайте, — тихо сказал майор, все так же старательно пряча глаза под козырьком фуражки.
Пули ушли в далекое небо.
Орехов, сдернув с головы пилотку, смотрел на каменный холмик, выросший на склоне сопки, и думал о том далеком, неправдоподобно далеком времени, когда кончится война.
Стихнут здесь, в сопках, выстрелы, и чайки не будут так тревожно летать над озером. Они будут спокойно садиться на воду и покачиваться на волнах белыми табунами.
Сюда, на откос, будут прилетать птицы и отдыхать на холмике камней, не ведая, что под ним в гранитной могиле, в крепчайшем каменном саркофаге, лежит человек. Его звали Сергеем, родом он был из тихого города на Волге. Ясноглазый парень, которому так и не исполнилось восемнадцати лет. Он не успел в жизни поцеловать девушку, поступить в Суриковское, написать картину. Единственное, что он сделал, — взорвал немецкий дот, из которого могли убить много людей. Слышите, чайки, очень много людей…
В роту снова пришло пополнение. Третий раз за эти два месяца. Батареи на склонах сопок, винтовки и пулеметы требовали пищи. Они не могли жить без нее. Если не давать им есть, они умрут ржавой смертью где–нибудь в темном складе…
Тридцать два человека гуськом спустились в лощину с ручейком, где уже третий день отдыхала и приходила в себя рота Дремова. Вернее, те полтора десятка человек, которые выбрались живыми из щели на склоне Горелой сопки.
Пополнение привел старшина Шовкун. Он принес почту. Стопку измятых, захватанных многими руками конвертов и треугольничков, которые прошли трудный и медленный путь по военным дорогам и полевым почтам. Конверты сейчас, как и люди, погибали в огне, попадали в окружение, мокли и мерзли. Случалось, что конверт после длинного пути не заставал адресата и сиротливо лежал в штабе или в сумке у старшины. Иногда на него отвечали чужие руки, иногда просто забывали. Бывало, что конверты не доходили до адресата. Так, как письма Шовкуна. Их было пять, но в почтовый вагон попала бомба, и он сгорел. Остальным письмам старшины перегородил дорогу фронт.