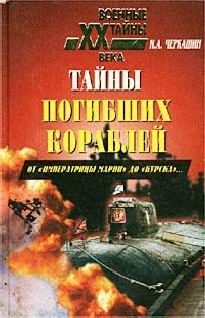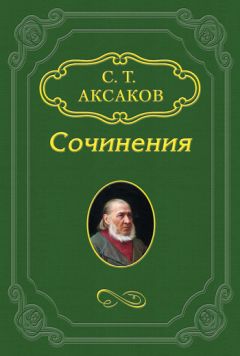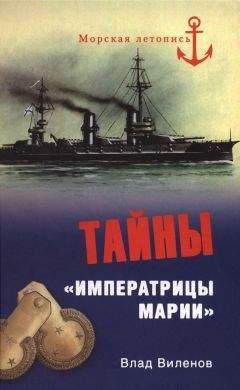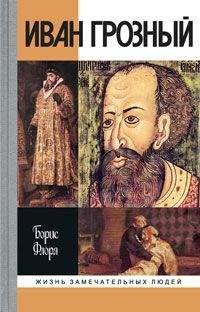Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)
Горько и стыдно читать эти строки. Как будто и на тебе лежит тень вины подлого отречения. Чего в нем больше - казенного равнодушия, страха или циничной уверенности бюрократа в том, что его административной воле подвластно все - даже память народа? Прикажет: "Забыть!" - и все забудут.
Правда, было принято закрытое постановление Совмина СССР об оказании помощи семьям погибших при исполнении воинского долга и об увековечивании памяти моряков-"новороссийцев". И помощь была оказана, и мемориал на старинном Братском кладбище, где похоронены участники первой и второй обороны Севастополя, был воздвигнут достойный. Из бронзы одного из гребных винтов линкора отлили фигуру Скорбящего Матроса с преклоненным знаменным флагом*. На гранитных пропилеях барельефы рассказывают то, о чем молчат надписи, о чем умалчивают экскурсоводы и путеводители. В обрамлении силуэта опрокинувшегося корабля - эпизоды отчаянной и героической борьбы за спасение линкора: матросы, подпирающие дверь аварийным брусом; офицер, прижимающий к уху тяжелую трубку корабельного телефона; моряки, выносящие раненого товарища...
На пьедестале монумента горит золотом: "Родина - сыновьям" (проект первоначальной надписи - "Родина - героям", нынешняя скромнее, но душевнее). И еще на мраморной плите, открывающей мемориал, выбито: "Мужественным морякам линкора "Новороссийск", погибшим при исполнении воинского долга 29 октября 1955 года. Любовь к Родине и верность военной присяге были для вас сильнее смерти".
Я много лет прихожу к этим камням, заботливо обсаженным вечной зеленью туи и можжевельника. И всякий раз вижу, как из газонной травы-муравы выглядывают фотографии молодых матросских лиц. Их оставляют здесь матери, приезжающие издалека на величественную, но, увы, безымянную могилу сыновей. Да, как поется в песне: "здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты". И все же, нарушая благочинность гранитного мемориала, то тут, то там выглядывают навеки двадцатилетние лица парней в тельняшках, форменках, бескозырках. Заливают эти фото на самодельных подставкax осенние дожди и весенние ливни, заносит их недолгим крымским снегом, коробятся они и желтеют, но не исчезают никогда.
Авторы мемориала предусмотрели место для имен погибших. Тридцать три года пустовала мраморная гладь... Разве что рука юного подонка чертила здесь название любимой рок группы. И чья-то другая рука стирала следы кощунства.
Приказано - "Забыть!"
Официальное забвение началось с молчания газет, вышедших на следующий день после катастрофы. "Слава Севастополя" сообщала о заседании в Большом театре по случаю 100-летия Мичурина, об отъезде из Крыма премьер-министра Бирмы У Ну, о скорых гастролях китайского цирка и футбольном поединке одесского "Пищевика" с севастопольской командой "ДОФ".
Столь же далека была от событий, будораживших флот и город, ежедневная газета черноморцев "Флаг Родины".
И только афиши театра имени Луначарского невольно откликались на злобу дня: "Последняя жертва" - извещали они о спектакле по пьесе А.Н. Островского...
Так зарождалась одна из "черных дыр" нашей истории, которая втянула и поглотила память о линкоре "Новороссийск" на несколько десятилетий...
Бывший заместитель по политчасти командира дивизиона главного калибра линкора капитан 1-го ранга запаса М.В. Ямпольский:
- Совет ветеранов нашего корабля зовут в Севастополе "подпольным". Есть в этой горькой шутке доля правды. Мы, оставшиеся в живых "новороссийцы", долгие годы действительно собирались негласно, вопреки воле начальства. Однажды я попросил катер для возложения венка на месте гибели линкора. Один высокопоставленный политработник заявил мне: "Нечего засорять гавань". Правда, сейчас выделяют и катер, и венок разрешают спускать на воду. Но тень какого-то недоверия к нам до сих пор не рассеяна. Мол, помнить не велено, а вы все помните. Да, помним! И будем помнить. Вот сбросились по десятке и заказали в 25-летнюю годовщину памятный значок с силуэтом "Новороссийска" и траурной лентой. Значок отштамповали на одной из фабрик - неофициально, с большим риском.
Но обиднее всего то, что на все наши просьбы установить на кладбище плиты с именами погибших "новороссийцев" мы слышали и слышим осторожное чиновничье: "Нас с вами не поймут!"
Да, товарищи столоначальники, вас не поймут. Вас невозможно понять... Да и чьего непонимания вы страшитесь?! Отцов и матерей погибших матросов? Или, может быть, тех моряков, которые встали в почетный караул к Скорбящему Матросу? Встали без оружия, встали по просьбе ветеранов "Новороссийска", которые пришли в день памяти на кладбище и увидели лейтенанта, приведшего своих матросов на экскурсию. У молодого офицера хватило гражданского мужества и душевного такта, да что такта - сострадания хватило, и он приказал своим бойцам встать в почетный караул к бронзовому матросу.
Или, может быть, севастопольцы забыли, как в день похорон "новороссийцев" все палисадники Корабельной стороны остались без цветов?
Как легко удалось одним лишь росчерком пера отправить в ил забвения 630 имен! Исключить из списков, не выбивать на надгробиях, не упоминать в прессе, изъять из экспозиций, похоронить в архивах. Забыть.
Они стояли до конца. Они погибли в бою. А от них открестились. Им отказали в естественном праве любого смертного - в имени над могилой.
"Не надо. Было и прошло... Дело давнее. Гордиться особенно нечем... Незачем привлекать нездоровое внимание... Нас не поймут".
В одном лишь они, прошнурованные души, правы - их не поймут. Не поймут и не простят кондового канцелярского равнодушия к памяти погибших моряков, к горю их матерей, отцов, вдов и сирот. Сколько лет тянулся поединок родственников погибших с бюрократами во флотских мундирах! И ведь речь-то шла о неоспоримом - об именах на надгробном камне. Они и не спорили, то есть наотрез не отказывали семьям погибших в их очевидном праве, а тихо и умело топили неприятное для них дело в иле казенной переписки.
Мне было довольно просто проследить ход этой удручающей волокиты, так как все три включенных в нее учреждения - политуправление ЧФ, музей и горисполком - расположены друг от друга в пяти минутах ходьбы. Итак, дело стало за тем, что командировать музейного работника в Ленинградскую область, где находится Центральный военно-морской архив, политуправлению не по средствам. Пусть так. Но что же архивные работники, неужели они не понимают, о каком запросе идет речь? Неужели ни у кого из них за полтора года не нашлось времени, чтобы, не прибегая ни к каким особым розыскам и поискам, как это делают ныне повсюду десятки энтузиастов-следопытов, снять с полки нужную папку и отослать в Севастополь список погибших?