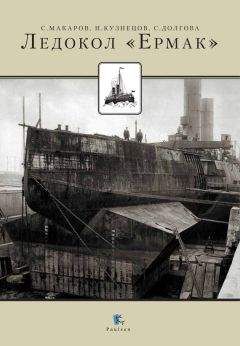Надежда Кожевникова - Гарантия успеха
Ее о чем-то спросили, потом она спела, потом подошла к роялю — это длилось миг. А когда ей сказали: «Можешь идти, девочка», она от радости, что все наконец закончилось, и все страхи позади, и дальше можно жить легко, свободно, поддавшись неясному какому-то порыву, вернулась к столу экзаменаторов, оперлась пальцами о зеленое сукно, оглядела устало-пасмурные лица сияющими, благодарными глазами, сказала горячо, с воодушевлением:
— Спасибо, большое спасибо! — и бегом кинулась прочь.
— Мамочка, — закричала издали, — все хорошо, все замечательно!
Но руки мамы, обнявшие ее, показались какими-то бессильными, безвольными. Маша удивленно заглянула маме в лицо: оказалось, Ираида Сумбатовна, появившись на мгновение, успела подать маме знак — разочарованно развела руками…
И Маша с мамой медленно, убито поплелись домой. Мама молчала, а Маша ее утешала как могла:
— Ничего, — она говорила, — я стану балериной. Или художницей. Или летчицей знаменитой. Или врачом — вот увидишь!
Но мама молчала. И в Маше все вдруг вскипело.
— Эта проклятая школа! — гневно она вскрикнула. — Никогда, никогда я не переступлю ее порог! Это самая плохая школа на свете, и очень хорошо, что я не буду там учиться.
… А через несколько дней в вестибюле «проклятой» школы были вывешены фамилии принятых, и среди них Маша.
4. Быть талантливым — здорово!
Как после выяснилось, мама вовсе не рассчитывала сделать из Маши профессионального музыканта. Она только хотела приучить дочь трудиться и ценить время, потому что, мама часто повторяла, все зло от лени, а кто умеет работать, тот добьется всего.
И еще, по выражению мамы, в той школе ее пленила атмосфера: собранные, сосредоточенные, одухотворенные лица ребят, — музыка, мама твердила, облагораживает.
Действительно, та школа так и называлась — для одаренных. Одаренные приезжали со всех концов страны — при школе имелся интернат, — и набор учащихся во все классы проводился каждую весну в течение всех одиннадцати лет обучения.
Ну а раз принимались новые, то, значит, проводилась, так сказать, чистка принятых прежде. Ежегодно, каждую весну. Почивать на лаврах не представлялось возможным — никаких расслаблений, постоянная мобилизованность. Время рассчитывалось до минуты. Программа общеобразовательного обучения была такая же, как и в других школах, ну а музыке отводились все оставшиеся часы, то есть буквально все, кроме сна.
Машина мама не ошиблась, в той школе дети вправду воспитывались трудягами. Но занятно: все, даже первоклашки, говорили, что они занимаются по специальности, то есть музыкой, куда меньше, чем это было на самом деле.
И вот почему… Считалось, что подлинному таланту все дается легко, с лету, а вот посредственность вынуждена потеть. И какой-нибудь девятилетний пузырь небрежно ронял в кругу одноклассников, что разучил сонатину Клементи в два вечера и что вообще он — ужасный лентяй. Только вот пальцы у «лентяя» были с мозолистыми подушечками: вчера, бесконечно играя этюды Черни, он разбил пятый палец в кровь, и теперь на мизинце его был надет колпачок из лейкопластыря.
… Пройдет время, и они поймут, что именно самые талантливые из них и есть самые трудолюбивые и что талант — это прежде всего выбор, приводящий к тому, что человека целиком поглощает его работа, и все остальное уже неважно, всем остальным он готов пожертвовать, и это единственный для таланта путь.
Но это случится позднее… А пока, с лживой искренностью глядя в глаза друг другу, они уверяли, что занимаются вовсе немного и все получается ну как-то так…
Принято было, вот и говорили. Но только кончались уроки, сбегали вниз, в вестибюль, и тут их подхватывали мамы, запихивали в пальтишки, курточки, привозили домой, кормили — и за инструменты!
«Ты лишаешь ребенка детства», — иной раз, не выдержав, бурчал папа. Но для Маши его заступничество уже не имело значения: папа не понимал — Маша теперь сама усаживалась за инструмент. Папа не понимал: это ей, а не только маме хотелось теперь быть среди первых. Ужасно хотелось быть талантливой!
Талант — вот что главное. К талантливым все иначе относились. Трудно объяснить как, но иначе. Талантливых знали в лицо. И Маша навсегда запомнила того, первого в ее жизни очень талантливого, с которым она оказалась в одной очереди в школьном буфете.
Талантливый был из иногородних, то есть жил в интернате, лет ему было, верно, тринадцать-четырнадцать. Щупленький, узкоплечий, он стоял впереди Маши, и она видела его затылок, худую жилистую шею, серые волосы прядками ложились на сильно оттопыренные и какие-то необыкновенно нежные, хрупко-прозрачные уши.
На мгновение он обернулся, мелькнуло лицо, невзрачное, тусклое, но в этой невзрачности было нечто загадочное — а как же, ведь он был талант!
Глаза тоже оказались тусклыми, дремотными и как бы невидящими: неловко он принял из рук буфетчицы тарелку с борщом, боком, точно теряя равновесие, прошел к столику, взял ложку и начал есть.
Ел, низко склонившись над тарелкой, резко двигая челюстями, и лицо его вообще ничего не выражало, но и это, верно, тоже было отличие, выделявшее талант среди всех прочих.
Маша глядела на него как завороженная и вдруг подумала, что борщ, который он ест, наверняка невкусный, а вот она сегодня дома ела куриный бульон. Ей сделалось стыдно, жарко от такой несправедливости, даже в носу защипало. И возникла невозможная мысль. Вот бы подойти к нему, взять за руку, сказать — идем, дома нас обоих моя мама накормит- но тут же она представила, как бы он тогда на нее взглянул, и сделалось зябко.
Талантливый доел свой борщ и встал. Маша глядела ему вслед, пока он пробирался между столиков, и то, что она чувствовала, было обожанием, на которое способны существа женского пола, ищущие и создающие себе кумира, с готовностью помогать ему во всем, что он, впрочем, вполне в состоянии и без них сделать.
Это впервые возникшее в ней чувство Маша перенесла на одноклассника своего Колю.
У Коли был абсолютный слух, и на вступительных экзаменах он всех им поразил, но играть умел только на аккордеоне. Рояль ему пришлось постигать с самых азов, в то время как остальные дети еще до школы прошли серьезную подготовку. А приехал Коля из Забайкалья, где в военной части служил его отец.
Коля явно чувствовал себя угнетенно среди бойких одноклассников, и потому, что жил у каких-то дальних родственников, и потому, что заикался, и потому, что любил играть на аккордеоне, а тут аккордеонами не интересовались, а усадили его за рояль.
Он был маленький — когда их выстраивали по росту у дверей класса, стоял первым — смуглый, круглоголовый, с мелким обезьяньим личиком, что подчеркивалось его привычкой морщить лоб. А глаза черные-пречерные, с непроглядью зрачков, и всегда печальные, тоскующие.