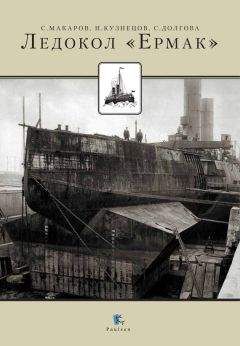Надежда Кожевникова - Гарантия успеха
Учительница сделалась жалка. Но в жалкости своей вредна, опасна. Она ведь угнетала Машу — такое угнетение, такую власть выдерживать оказалось особенно унизительно.
А фоном всего была музыка, глупые пьески, нудные гаммы, — Маша барабанила, лупила по клавишам и только так безнаказанно могла выразить свою злость. Учительница, в такт, легонько, похлопывала по ее плечу; Маша костенела, замирала — и ждала…
— … Ты что — нарочно? Ты решительно не намерена заниматься? — спросила учительница чьим-то чужим, очень неприятным голосом. — Ну что же, считай, что сама меня вынудила. — И встала.
— Вы куда? — пробормотала Маша и тоже вскочила.
— Я вынуждена поставить в известность твою маму. У меня уже нет сил справляться с тобой. — Раиса Михайловна взялась за дверную ручку.
— Нет! — Маша бросилась ей наперерез, прижалась спиной к двери. — Нет, подождите!
Мне надо поговорить с твоей мамой, — повторила учительница. — Я больше не намерена…
Нет! — не дала ей договорить Маша. — Пожалуйста, я вас умоляю!
У нее дрожал подбородок, она вся дрожала, и с губ слетали недетские, но где-то когда-то слышанные слова, жалящие гордость, растаптывающие достоинство — слова, при произнесении которых сам себе ненавистен и которые могут возникнуть только, наверно, в умопомрачении перед чем-то таким ужасным, что и не вообразить.
Маша не соображала в тот момент, что может случиться, если учительница пожалуется маме, но ей казалось, что, если она только выйдет до окончания урока из комнаты, беда неминуема.
Бе-да! Лицо мамы — уже достаточно.
— Дай, пожалуйста, пройти, — сказала учительница нетерпеливо и потянула к себе дверную ручку.
И тут Маша — это она никогда не забудет — бухнулась на колени, схватила руку учительницы и, задыхаясь от ненависти, брезгливости, отчаяния, прижалась губами.
— Что ты! — учительница вскрикнула, подалась назад. Но — поздно.
В комнату вошла мама.
— Мама! — кинулась к ней Маша, мгновенно забыв, что маму-то она больше всего и боялась, что именно страх перед маминым наказанием… Она рыдала и билась в руках у матери, повторяя несвязно:
— Уберите, ненавижу, ненавижу…
Повторяла, пока ее не уложили в постель, задернули шторы, и потом она лежала, глядя перед собой, ощущая странную заторможенность, опустошенность, близкую к облегчению, точно долго болела и вот выздоровела, но очень пока еще слаба, и покачивает ее, подташнивает от слабости.
И еще ей казалось, что какая-то сила внезапно ее подняла и выбросила вперед — к тому будущему, о котором говорили и к которому готовили ее взрослые.
Она привстала, оглянулась на дверь, откинулась на подушки, потом медленно, с замершим лицом поднесла свою руку к губам, понюхала — и снова увидела, как все это было- понять, осознать еще не могла, но знала уже, что это никогда ее не отпустит.
2. Консультация
В определенном возрасте дети вдруг перестают задавать вопросы.
Покорные, послушные, они идут туда, куда ведут их взрослые. Молчат. Но с удесятеренным вниманием ловят все случайно, вскользь оброненные намеки.
Маше исполнилось шесть.
Они долго ехали с мамой в метро, потом на троллейбусе, потом в трамвае.
Потом мама расспрашивала прохожих, а Маша безучастно стояла рядом. Наконец нашли песочно-желтый дом с башенкой. Вошли в парадное. Поднимаясь по лестнице, услышали звуки рояля. Мама облегченно сказала: «Здесь».
Комната, куда они вошли, была проходной: ряды стульев, на столе кипы журналов — обстановка такая, какая бывает у частно практикующих врачей.
Темно, безлико, зябко, душно. Мама стянула с шеи шарф, улыбнулась Маше ободряюще, и Маше стало маму жалко. Мама, бедная, очень волновалась, — и опять ее волнение было связано с музыкой, к этому Маша уже привыкла.
Они сидели вдвоем в проходной комнате, но вскоре появились еще двое, женщина с мальчиком, шепотом поздоровались, сели. А сбоку, за стеной, звучал рояль. Было в этих звуках нечто такое, что, казалось Маше, не предвещало ничего хорошего: удручающее однообразие пассажей, механическое выделение сильных долей, и не было вроде этому конца.
Но вот все же конец настал, рояль замолк. Дверь отворилась, и вошла высокая горбоносая женщина, улыбнулась, но улыбка не изменила выражения ее лица, деловито-нетерпеливого.
Зазвонил телефон, и она, оборвав фразу на полуслове, схватила трубку:
— Игорек! — воскликнула восторженно и замолкла. Слушала, поглаживая ласково пальцами трубку. — Да что ты говоришь! Ну поздравляю, поздравляю.
Спасибо, милый. Конечно, приду…
Звонок, видно, очень ее взбодрил. И она не удержалась, пояснила гордо присутствующим:
— Игорь Кубов звонил — ученик мой. Ну, знаете, Первая премия в Брюсселе.
Сразу стала как-то выше и еще горбоносое: чувствовалось, что она переживает момент торжества. Но и в такой момент деловитость ее не покидала.
Прищурившись, взглянула на Машу, взяла ее за подбородок.
— Аппетитная девочка.
Наверно, это следовало воспринять как поощрение, но пальцы у горбоносой были жесткие, холодные.
Маша стояла спиной к роялю, горбоносая нажимала то одну, то другую клавишу, Маше надо было чисто пропеть ноту, а после сказать, что это — то ли «до», то ли «ре», то ли «ми».
Маму свою Маша не видела, но наблюдала, как все больше скучнеет лицо у горбоносой.
— Видите ли… — закончив испытания, обратилась она к Машиной маме, и Маша не стала слушать, подошла к шкафчику, где за стеклом стояли фарфоровые финтифлюшки.
Как все дети, Маша была любопытна. В ней еще не проявилось свойство людей взрослых все видеть, воспринимать только с точки зрения собственной персоны, — она видела живо, ярко, непосредственно, и все новое возбуждало ее интерес. Детское видение, детское восприятие тем и хорошо, что свободно, не угнетается никакими правилами, ограничениями, и занято не собой, а окружающим и окружающими.
Пока мама и горбоносая говорили. Маша разглядывала комнату. Мебель стояла тесно, впритирку, потому что очень много места занимал рояль. На круглом столе, покрытом темной скатертью, сахарница, вазочка с печеньем, стакан с простывшим чаем, а на подставке закопченный алюминиевый чайник.
По-видимому, горбоносая не особо пеклась о домашнем уюте, ей было недосуг.
А на стенах висели фотографии в рамочках. Молодые лица, в анфас и в профиль, совсем не похожие, но с каким-то неуловимым сходством. Сходство, вероятно, возникало из-за общности выражения: юношески откровенное торжество, слегка надменное, холодноватое, ощущалось и в темных, и в светлых глазах, и в острых, и в округлых подбородках. А наискосок, или внизу, или сбоку шли надписи: «Первой моей учительнице», «Дорогой Ираиде Сумбатовне», «Моей наставнице» и т. д.