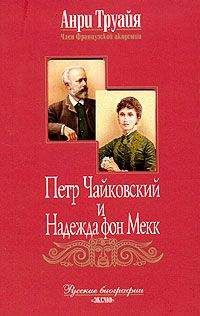Анри Труайя - Оноре де Бальзак
Бальзак тоже упрямился: «Дорогая матушка, если кто и был удивлен, так это мальчик пятидесяти лет, которому адресовано полученное вчера твое письмо от четвертого числа этого месяца, где мешаются „вы“ и „ты“… Во избежание получения еще одного подобного, я мог бы сказать, что посмеялся. Но оно глубоко огорчило меня полным отсутствием какой-либо справедливости и столь же полным непониманием нашего положения. В твои годы тебе следовало бы знать, что злостью ничего не добьешься, тем более от женщины. Судьбе было угодно, чтобы это письмо, написанное с хорошо просчитанной жесткостью и чрезвычайной сухостью, я получил как раз тогда, когда размышлял о том, что в твои лета ты можешь рассчитывать на максимум удобств и что Занелла всегда должна быть при тебе, что я был бы рад, если бы помимо ежемесячных ста франков у тебя было оплаченное жилье и триста франков на Занеллу, что все вместе составило бы тысячу восемьсот франков вместо тысячи двухсот… И надо было, чтобы в довершение ко многому, истинность чего ты не можешь не признавать, пришло письмо, в нравственном отношении сопоставимое с твоими раздраженными, пристальными взглядами, которыми ты одаривала детей, когда им было пятнадцать, но которые для пятидесятилетних, к коим я, к несчастью, принадлежу, утратили всю свою силу. К тому же та единственная женщина, которая может составить счастье моей жизни – жизни бурной, напряженной, полной трудов, насквозь пронизанной нищетой, эта женщина – не ребенок, не девушка восемнадцати лет, ослепленная славой, прельстившаяся состоянием, привлеченная красотой, ничего этого я дать ей не могу… Она чрезвычайно недоверчива, а жизненные обстоятельства только обострили эту недоверчивость и довели ее до крайней точки… Было бы вполне естественно, поскольку я знаю ее уже десять лет, сказать ей, что она выходит замуж не за мое семейство, что будет вправе решать, иметь ей дело с моими родственниками или нет, это продиктовано честностью, деликатностью и здравым смыслом. Я не скрывал этого ни от тебя, ни от Лоры. Но то, что само собой разумеется и справедливо, показалось вам подозрительным, вы подумали, что с моей стороны это отговорки или я замышляю что-то недоброе, возвыситься, например, сблизиться с аристократией, забыть своих… Вот в чем все дело. Ладно! Но неужели ты полагаешь, что твои письма, которые лишь изредка одаривают меня словами нежности, хотя я и должен был быть для тебя предметом гордости, особенно похожие на вчерашнее письмо, могут показаться привлекательными женщине с характером, которая подумывает о создании новой семьи? Смотри же! Лора шлет мне письмо, где живописует положение свое и мужа в красках самых мрачных, говорит о нищете, грозящей ей и детям… получается, чтó о нашей семье должны подумать занимающие в своей стране самое видное положение иностранцы, прочитав о моей сестре с двумя дочерьми-бесприданницами, шурине, которому необходимо как минимум сто тысяч франков, чтобы уладить свои дела, матери, о которой сын думает постоянно, назначает ей ренту почти в две тысячи франков, и, наконец, о мужчине пятидесяти лет, у которого еще пятьдесят тысяч франков долгов… Конечно, я не прошу тебя о проявлениях чувств, которых нет, только тебе и Богу известно, отчего ты лишила меня ласки и нежности с тех самых пор, как я появился на свет… но хотелось бы, дорогая матушка, чтобы ты была поумнее, отстаивая свои интересы, хотя тебе это никогда не было свойственно, и чтобы ты не стояла на пути моего будущего, о счастье я и не говорю».
Оноре очень боялся, что родные, с их прямолинейной настойчивостью, выведут Еву из себя и расстроят женитьбу, которая должна была обеспечить ему блаженство и состояние, и потому после письма матери, в котором попытался объяснить ей ситуацию, отправил еще одно, сестре. Он умолял Лору растолковать госпоже Бальзак, что обстоятельства, в которых он находится, – самые деликатные, он чувствует себя попрошайкой, Ганскую могут вспугнуть бедность и требования близких жениха, и вообще, все еще до конца не решено, одной неловкой фразы достаточно, чтобы разрушить то, к чему он шел годами терпения: «Пусть тебя не обижают мои слова. Я говорю их от чистого сердца, из желания подсказать, как следует вести себя ввиду свадьбы. Дитя мое, следует идти как по лезвию бритвы, думать, прежде чем произнести какое-то слово или что-то сделать… Единственное, что мне необходимо, – абсолютный покой, внутренняя жизнь и работа в меру сил, дабы завершить „Человеческую комедию“… Если же ничего не выйдет, заберу книги и все принадлежащее мне из дома на улице Фортюне и философски начну заново строить свою жизнь, свое счастье… Но на этот раз предпочту какой-нибудь пансион, где у меня будет готовая комната, чтобы ни от чего не зависеть, даже от мебели… Оставив в стороне чувства (неуспеха моя душа не перенесет), решение этого дела означает для меня либо все, либо ничего, или теряю выигрыш, или его удваиваю. Проиграв, больше не буду жить, мне хватит мансарды на улице Ледигьер и ста франков в месяц. Сердце, разум, устремления не желают ничего другого, кроме того, к чему я рвался последние шестнадцать лет. И если этого безмерного счастья не случится, мне ничего не нужно, ничего не хочу. Не надо думать, что я люблю роскошь вообще. Люблю роскошь дома на улице Фортюне только в определенном обрамлении: красивая, хорошего происхождения женщина, прекрасные, непринужденные отношения. Роскошь как таковая мне не интересна, дом на улице Фортюне сделан для этой женщины и ею… И если я не стал великим, написав „Человеческую комедию“, величие обеспечено мне, если выгорит это дело».
В Париже семейство Бальзаков, читая письма Оноре, напряженно следило за перипетиями его романа с Иностранкой. Выйдет она в конце концов за него или нет? Племянница писателя Софи Сюрвиль бесхитростно рассуждала на страницах своего дневника: «Она [Ганская] – гордячка и всегда будет смотреть на него свысока, как бы знаменит он ни был. Быть может, я ошибаюсь. Но мне от всей души хотелось бы, чтобы все вышло, как он того желает. А ведь это разлучит нас! Мы будем чувствовать себя униженными. Пусть! Сегодня вечером помолюсь о дядиной женитьбе».
Лоран-Жан, которому Оноре поручил выступать от его лица на переговорах с директорами театров, издателями, редакторами, упрекал Бальзака, что тот никак не представит читателям очередной шедевр. Он лез из кожи вон, пристраивая «Дельца», и хотя пьесу приняли, новое руководство «Комеди франсез» отложило ее постановку на более позднее время. А после второго чтения вовсе решено было отправить на доработку. В марте 1849 года Лоран-Жан предложил ее театру «Историк». Но там с небывалым успехом шли «бесконечные мушкетеры», на скорую постановку «Дельца» рассчитывать не приходилось.