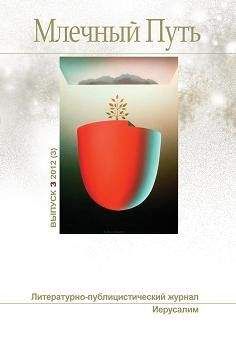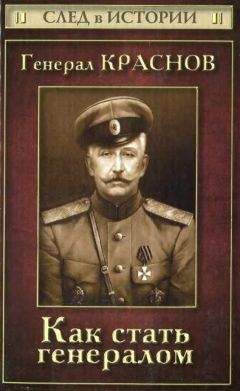Станислав Лем - Черное и белое (сборник)
А жаль. Это в высшей степени ненормальная ситуация, и я боюсь, что никакие выборы и изменения парламентов ничего не изменят в этой изоляции в лучшую сторону.
2
Размываемая временем память моя тускнеет, остались в ней лишь события столь поразительные, как, например, моя встреча с молодежью (в 1963 или 1964 году) в Университете имени Ломоносова, в одном из этих чудовищных колоссов сахарной советской архитектуры. Я стоял на дне огромной воронки амфитеатра, рядом со мной в качестве «адъютанта» стоял профессор Брагинский (специалист по лазерной оптике), а все круги сидений, все проходы между ними, вообще все это пространство было заполнено студентами и студентками: эту встречу организовал университетский комсомол, мне говорили, что там было более двух тысяч людей. Профессор Брагинский после моего короткого выступления приступил к выполнению своих функций. Я не был тогда еще глухим, но там было принято присылать выступающему карточки с вопросами. Может быть, я ошибаюсь, но такая форма увеличивает анонимность спрашивающих, что в том времени и месте могло быть полезным. Брагинский спросил меня, должен ли он пропускать «неудобные» вопросы, на что я ответил, что ни в коем случае: я постараюсь ответить на все записки. Какое-то время все шло нормально, но тут он вручил мне карточку с прямым вопросом: «Разве вы коммунист?» Коммунист ли я? Я решил ответить, что коммунистом не являюсь, и добавить несколько слов о благородных намерениях обеих творцов коммунизма, но после слов: «Нет, я не коммунист» грянул такой шквал аплодисментов – хлопали все – дальнейшие попытки ослабить эффект моей демонстративности не имели смысла. Потом студенчество набежало на деревянное возвышение кафедры, на котором я стоял, и от натиска жаждущих автографов деревянный пол начал угрожающе трещать: тут хладнокровный профессор схватил меня и всунул в небольшую дверцу под огромной доской, в лабораторию, находящуюся в соседнем зале. Там он сварил для нас обоих в лабораторных колбах кофе, однако поговорить с ним о лазерах мне не удалось, а позже я узнал, что комсомол не пришел в восторг от моего выступления. Реакция молодежи уже тогда, тридцать лет назад, заставила меня задуматься, поскольку несомненно была непроизвольной, вот только я так и не смог решить, что именно вызвало это бурное одобрение: или уже тлеющая неприязнь, идиосинкразия к безустанной и вездесущей марксистской индоктринации, или же это был скорее акт положительной оценки моей «отваги». Кавычки здесь весьма к месту, потому что все это сочетание мощного давления, всеобщего доносительства, и одновременно угрозы любой не только карьере, но попросту жизненному пути, да и жизни, наконец, для молодых людей, которые изведали (повторю вслед за канцлером Колем) «милость позднего рождения», уже является или уже становится экзотической стариной, вообще трудной для понимания. Особенно трудной из-за диспропорции, зияющей между мельчайшими отступлениями от официального стандарта доктрины в любом месте, не только в общественном, и мрачными последствиями, которыми грозят такие отступления. Я уверен, что тех студентов лучше всего защищало то, что они находились в скопище людей, поскольку это создает ситуацию некоторой безличной безответственности, сводящей на нет возможность выявления «уклонистов»: ведь это были времена, когда советские психиатры декретировали существование «медицинской бессимптомной шизофрении» для граждан, мыслящих «иначе, чем нужно и можно». Таким отказывали в нормальности и держали в заключении как сумасшедших, и подвергали действию «химических дубин» психиатрической фармакопеи, это были не шутки, а я знал лишь, что на дворе время хрущевской оттепели и что меня как-то защищает невидимая броня заграничного гостя (хотя русские тогда говорили: «Курица не птица, Польша не заграница»). Времена все-таки изменились радикально. Впрочем, все эти увенчания и восторги не вскружили мне голову, ибо я слишком хорошо понимал, какова сила моей «суррогатности» или, точнее, каким суррогатом свободы я выглядел в их глазах из-за того, что в моих книгах есть, и из-за того, чего в них издавна нет (а именно: «приспособленчества»). Таков был янусовский облик моих московских приключений; впрочем, с тех пор как в польской государственной гимназии (во Львове) я выучил украинский язык (который был обязательным), я уже легко втянулся в русский, при этом мне открылось пространство такой поэзии, как пушкинская, которая в оригинале гораздо прекраснее, чем даже лучшие польские переводы – например, Тувима. Тогда же я читал по-русски «Преступление и наказание», мне интересно было непосредственно встретиться с русской, первичной версией этого значительного романа Достоевского.
3
Я мог бы так еще долго вспоминать, и кто знает, не вернусь ли я когда-нибудь к воспоминаниям, о которых умолчал из-за цензуры. Здесь же скажу лишь, как сильно взволновал меня огромный контраст между всевластием КГБ, ГРУ, партии, которая стальной сетью оплетала советское общество, стремясь распространить это на весь наш мир, на многие народы по соседству и вдали, своими агентурами, резидентами, шпионами, «полезными идиотами» – и не менее сокрушительным, прямо-таки моментальным коллапсом, развалом этого здания гигантских планов завоевания планеты и гигантских напряжений, выжимаемых из миллионных коллективов, из пота, крови, человеческих тел, из наилучших умов. Ведь все шло к первому удару, но властям из Политбюро казалось, что сил еще (может быть) недостаточно. Откровением буквально последних дней сентября 1993 года стали данные, оглашенные в самом российском центре бывшей Страны Советов: оказалось, что ядерных боеголовок было произведено в два раза больше, чем сумело насчитать в своих разведках ЦРУ, и более того, для бомб было накоплено не пятьсот тонн обогащенного урана 235, как полагали в Америке, а примерно на тысячу тонн больше! Настоящие горы, Гималаи смерти, все эти натужные старания, гигантские усилия привели наконец к тому, что, как писали в газетах, Советы haben sich selbst totgerstet, то есть довооружили сами себя до смерти. И не только в области экономики, в которой все было подчинено производству смерти: ибо эта продукция оставила колоссальные территории страшных биологических угроз для человека на веки вечные, воды Ледовитого океана, тайга, города, появляющиеся словно из ниоткуда после распада СССР, полные людей, которые специализировались исключительно в направлении плутониево-водородного вооружения, создания мин, бомб, биологического оружия в таких размерах, что тем, кто, выведав что-нибудь, оглашал это на Западе, Запад им не хотел верить! Это был стремительный поток более четверти миллиарда людей, несущихся в трансе, словно неимоверно выросшие лемминги, а сейчас, когда я это пишу, остатки верных неволе, верных смерти окружают в Москве Белый дом, чтобы поддержать остаток находящихся в нем антиреформаторских депутатов, которые вместе со своими сторонниками хотят восстания из мертвых этой и выведенной в космос силы, которая наполняла их, видимо, какой-то коварной радостью, граничащей с наслаждением суперраба, который может измываться, как хочет, над теми, кто подчиняется ему. А мы тем временем, после поражения наших товарищей-панов, клонимся к созданию очередного варианта такого правительства, которое столкнет нас с обрыва в глубину пропасти обещаний, которые невозможно исполнить.