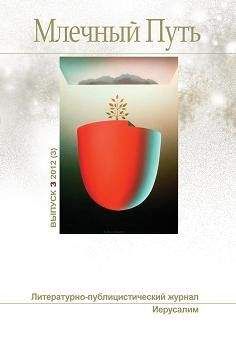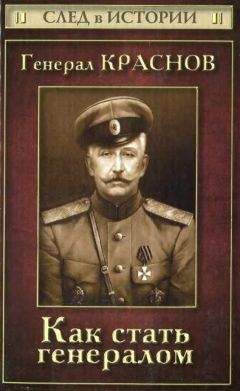Станислав Лем - Черное и белое (сборник)
Это были самые первые годы так называемой «народной власти», и репрессии еще не везде распространились. Только благодаря этому Хойновский начал реализовывать свою программу, целью которой отчасти должно было стать распространение знания Запада, от которого мы были отрезаны во время оккупации. Когда у нас появились российские научные издания, Хойновский взялся за их пересылку университетам, главным образом, в США, а из полученных же оттуда взамен сочинений вскоре собрал значительную научную библиотеку, прежде всего, разумеется, англоязычную. Кроме того, он решил взяться за психометрическое исследование прогресса молодежи, обучающейся в краковском университете, и с этой целью организовал «мастерскую тестов», в которой и я magna pars fui[210]. Кроме того, Хойновский дал мне работу на полставки младшего научного сотрудника, хотя единственным основанием для поступления на эту должность был студенческий билет медицинского факультета.
Хойновский стал моим наставником, так как я должен был под его надзором не только изучать логику по Дубиславу, но одновременно вгрызаться в английский язык, за незнание которого Учитель меня отчитывал. Атмосфера лектория пошла мне на пользу, поскольку Хойновский распространял ауру неподдающейся никакому давлению независимости, что, разумеется, не могло не приводить к конфликтам и столкновениям со стереотипами, навязываемыми нам советским протекторатом. В Польше на территорию научного познания в широко понимаемом смысле советизация вторглась настоящим духовным танком. Там, где это было возможно, Хойновский был готов проявлять некую приспособленческую гибкость, например, порекомендовал мне, когда уже я проводил в ежемесячнике «Życie Nauki» науковедческий обзор прессы, выборочно изложить и в конце концов обсудить то, что было в советской науке здоровым зерном[211]. Однако Хойновский не шел ни на какие соглашения с режимом, благодаря чему наш малотиражный ежемесячник стал в стране, придавленной не только лысенковщиной, последним бастионом критики этого примитивного доктринерства. Зная русский язык, я мог из ведущихся на страницах московской «Правды» дискуссий лысенкистов с так называемыми менделистами-морганистами выделять упорное, хотя слабнущее в контраргументах, сопротивление последних. Однако все усилия моего Учителя провалились, а начало этому провалу дала пани Евгения Крассовская из Министерства науки, спрашивая редакцию, кто осмеливается повторять по-польски отчаянные возражения раздавливаемых Лысенко российских биологов. Хойновский, разумеется, автора статьи не раскрыл[212]. Почти одновременно из Варшавы пришел запрет на запуск психометрической программы, вдохновителем которой был Хойновский, поскольку у народной власти за ним числилось уже очень много смертных грехов. Редакцию «Życie Nauki» у Хойновского отобрали, коллектив разогнали на все четыре стороны, новая версия перенесенного в Варшаву ежемесячника получила уже покорного власти редактора, последним же пристанищем Хойновского стала должность психолога в психиатрическом учреждении в Кобежине.
Тогда наши дороги разошлись. Хойновский не принадлежал к тем, кто по расчету quid pro quo[213] был готов стать членом партии взамен за возможность вступления на путь отечественной научной карьеры. Ему удалось вместе с женой выехать в Мексику. Долгие годы я не имел с ним никакого контакта. Он обратился ко мне примерно только после октябрьской оттепели[214]. Работал он уже в мексиканском Национальном педагогическом университете. Недавно я получили оттуда известие о его смерти. Родившийся в 1909 году, близкий знакомый Виткацы, о котором рассказывал многочисленные анекдоты, он умер на девяносто втором году жизни и был похоронен на чужбине.
Я знаю о нем только то, сколь многим я ему обязан. Хойновский воспитал меня, то есть так установил стрелки направления моего умственного развития, что я не поддался красной паранойе, и в моей памяти до конца моих дней он останется человеком, чуждым каким-либо компромиссам. Не знаю, можно ли что-то более похвальное сказать о судьбе личности в государстве духовного террора.
Так было
1
Часть воспоминаний, которыми я делился в беседах со Станиславом Бересем, опубликовало краковское «Wydawnictwo Literackie», при этом первая часть книги создавалась во времена «Солидарности», еще той, самой ранней, а вторая – во время военного положения, и целая глава этих бесед, касающаяся Польши, полетела к чертям, не осталось у меня ничего ни на бумаге, ни в памяти. Осталось только несколько воспоминаний, что-то вроде моментальных снимков. Как меня чествовали русские в той Москве; Высоцкий, уже тогда ужасно хрипевший бедняга, с порванными голосовыми связками, пел мне «Ничейную Землю»[215] и другие свои песни, и здесь же, совсем нехронологично рядом с Высоцким, видится картина, как на его свежезасыпанной могиле молодые люди ломали и разбивали гитары, картина эта была пронизывающей, ведь Высоцкий стал символом, хотел он этого или нет. Пел мне также Галич, который погиб от удара током уже в парижской квартире, причем в той его частной квартире иногда к его гитаре придвигали снятую с рычагов телефонную трубку, чтобы кто-то в другой московской квартире тоже мог слушать Галича. Пригласили меня даже в Институт высоких температур, и попал я туда только со специальным министерским пропуском, так как в Институте изучали действительно очень высокие температуры, а именно: от атомно-водородных бомб; был это город в городе, строго охраняемый, а я там выступал и отвечал на вопросы ученой публики, настоящая профессия которой осталась тогда мне неизвестной. А когда (холодно уже было) после того выступления кто-то помогал мне надеть пальто, то одновременно с этим конспиративно всунул мне в руку какой-то листок, и там было написано (по-русски, естественно), что этому человеку могу полностью доверять: поручителем его подписался Галич. Пока я ждал машину, этот человек сказал, что после девяти вечера я должен выйти из своей гостиницы («Пекин») на улицу и на углу подождать: больше ничего. Заинтригованный, я сделал так, как мне было сказано, подъехал маленький «запорожец» и остановился около меня, а когда открылась дверца, я увидел, что машина полна людей, куда же я сяду? «Ничево», – сказали мне. Устроившись на чьих-то коленях, во время езды по темным улицам (Москва в тех районах, куда меня везли, отличалась тьмой египетской по ночам) я пару раз поворачивался, чтобы в заднее стекло, уже как польская разновидность Джеймса Бонда, высматривать, не следует ли за нами какая-нибудь другая машина. Мы где-то остановились, через какие-то дворы, в кромешной тьме, по коридорам, крутой лестнице добрались до двери, которая открылась, и меня ослепило ярким светом, а в этой большой комнате вокруг белоснежно накрытого стола сидел цвет советской науки. Конечно, там не было гуманитариев, философов или врачей: исключительно физика, космология, кибернетика, помню, что получил книжку от председателя Эстонской академии наук с каким-то замечательным автографом, у каждого столового прибора с одной стороны лежала пачка американских сигарет, а с другой стояла банка с заграничным (естественно) пивом, а на случай, если я чего-то не понял, кто-то заверил меня, что здесь можно говорить все. Быстро завязался разговор, и именно эти беседы раззадорили меня, рассеяли мои сомнения, стоит ли писать моего «Голема», и так меня воспринимали в роли суперрационалистичного ересиарха-визионера, и так мы там захлебывались полной свободой общения, что я действительно чувствую себя должником той ночной встречи. Как меня потом отвезли в гостиницу, не помню. Некоторые из московских приключений, которые могли быть дозволены цензурой, я описал, разговаривая с Бересем, но рассказать всего не мог. Когда русские изъяли меня из делегации Союза польских писателей и отправили в Ленинград на поезде «Красная стрела», в состав которого входили только спальные вагоны (это та железнодорожная трасса, которая летит абсолютно прямо, и только в одном месте есть дуга, вызванная тем, что царь именно там держал палец на карте, когда чертили план дороги), я оказался в двухместном купе совершенно один, и почти в последнюю минуту перед отправкой появился москаль, у которого не было никакого багажа, вообще ничего. Когда нужно было укладываться в чистую постель, я подумал, что он ляжет спать голым, и тут очередная неожиданность: вместо кальсон на нем были темно-синие спортивные брюки, в них он и лег спать, а проводница постучала утром, когда мы подъезжали к «Северной Венеции», и принесла на подносе бутерброды с красной икрой и грузинский коньяк. Видимо, таким образом начинала день высшая советская элита. Я жил напротив Исакиевского собора в гостиничном номере, напоминающем о жизни предреволюционной аристократии из красочного фильма, а добрая Ариадна Громова, моя переводчица, уже покойная, проживала (сопровождая меня) в маленькой комнатке с простой мебелью в задней части этого салонного реликта гостиничного дела, потому что таким, разноуровневым, был тогда Союз Советских Социалистических Республик. И помню ужин у космонавта Егорова, наш неестественно затянутый разговор, и то, как он, выйдя из машины перед своим большим личным домом (в Москве), снял с «Волги» стеклоочистители и привычным движением, легко и уверенно спрятал их в карман. Помню также, как у меня закончились чернила в шариковой ручке, и я легкомысленно и наивно утром отправился по улицам Москвы, чтобы купить другую ручку, и естественно ничего не нашел, а когда удивленный (потому что глупый) рассказал об этом знакомым, несколько рук протянули мне вынутые из карманов шариковые ручки. Когда позже я долго пребывал в Москве один, то, прежде чем поругаться с Тарковским и вернуться в Краков, остановился в отеле «Варшава» на проспекте Ленина, а еще в Польше мне посоветовали взять с собой баночку растворимого кофе. Оказалось, что это было весьма предусмотрительно. Я получил номер, в котором по коридорчику можно было войти в две большие комнаты, одна с огромным столом и гигантским холодильником «Донбасс», другая – спальная, и в этой «рабочей» стояли (на всякий пожарный случай) два телевизора. В отеле можно было позавтракать, и даже неплохо, сосиски, кофе (но никогда не было ни молока, ни сливок), но довольно скоро я понял, зачем там был нужен холодильник, так как русские нанесли мне еды: кто банку сгущенного молока, кто маленькие и зеленые, как лягушки, яблочки, кто сахар, а в буфете на моем этаже гостиничные постояльцы стояли в очереди перед окошком, из которого потихоньку выдавали булочки и что-то там еще. А я тем временем сидел в комнате, в пижаме, правда, обычно недолго, потому что уже с рассвета начинали надрываться телефоны, размешивая ручкой зубной щетки кофе с водой (кипятильник у меня был свой) и молоком. Или же, когда физики пригласили меня на ужин на Арбат, в московскую современность, и мы сидели в зале столь же огромной, как ангар для дирижаблей, я заказал и ел якобы куропатку, которая была больше курицы (в СССР все, включая и гномов, было, как известно, гигантским), а у меня была назначена встреча с одним ученым из Академии наук в отеле, и я рассказал об этом моим хозяевам. Они успокоили меня, что я наверняка успею к десяти часам (вечера) на такси, потом же, когда после моих настойчивых просьб беседу закончили (до меня доходили отголоски каких-то переговоров с обслуживающим персоналом), оказалось, что о такси не может быть и речи, и физики тщетно бросались под колеса автомобилей, которые безжалостно проезжали мимо нас, так что я добрался до отеля лишь к полуночи с чувством вины за сорванную встречу с ученым. Там же я пережил некоторое потрясение: этот господин весьма приличного возраста сидел на полу перед моим номером на портфеле, который он подложил под себя, и я был вынужден делать вид, что такое ожидание в такой ситуации – это наиобычнейшее явление на свете, и даже неудобно было слишком перед ним извиняться.