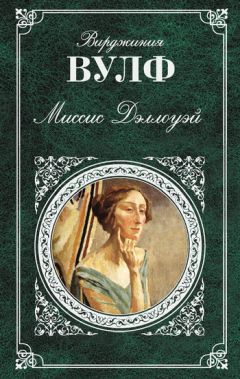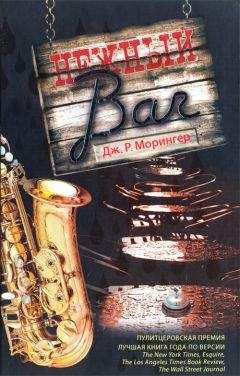Вирджиния Вулф - Дневник писательницы
Понедельник, 19 августа
Вчера, в воскресенье, восемнадцатого, опять рев. Прямо над нами. Я смотрела на самолеты, как гольян на ревущую акулу. Они сверкали над нами — три, как мне показалось. Оливково-зеленые. Потом поп, поп, поп — немцы? Опять поп, поп, поп — над Кингстоном. Сказали, что пять бомбардировщиков летели на бреющем полете в направлении Лондона. Мы были на волосок от гибели. 144 бомбы — и это не в последний раз. Сегодня налетов (пока) нет. Репетиция. Я не могу читать. Сожаление. Почему не говорят правду?
Пятница, 23 августа[318]
Книга провалилась. Продажи упали до 15 в день после налета на Лондон. Не в этом ли причина? Может быть, еще поднимутся?
Среда, 28 августа
Как бы мне хотелось целыми днями писать стихи — это подарок мне от бедняжки X., которая никогда их не читала, потому что возненавидела их еще в школе. Она гостила у нас, если точно, со вторника до воскресного вечера: и мне казалось, будто это я гощу у нее. Почему? Потому что (отчасти) у нее артистический темперамент, а она не принадлежит к миру искусства. Она темпераментна, но у ее темперамента нет выхода. Мне она кажется очаровательной; у нее есть индивидуальность; она искренна и, в общем, трогательна. В ней есть забавная бестолковость; нетренированный ум. И она из сомневающихся. Надо ли соглашаться на все? У. говорит «да» — я говорю «нет». По правде говоря, у нее нет чувства цвета — и она не чувствует музыку и живопись. Много сил и энергии, но все же что-то постоянно мешает прыжку. Могу представить, как она заливается слезами перед сном. Итак, не привезя ни еды, ни книг, она чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Я позвала ее, чтобы облегчить ее состояние. Моя милая псина. Афганская гончая — с длинными крепкими лапами и длинным телом и космами нечесаных волос. Хорошо, что я хорошенькая, сказала она. Так оно и есть. Однако теперь я знаю, в результате недельного беспрерывного общения, шаров, чая, гостей, что такое привилегированная частная школа — полное отсутствие одиночества. Вне всякого сомнения, неплохое растирание жестким полотенцем для старого разума. А Юдит и Лесли хотят играть в шары. Вот почему в мое первое одинокое утро после Лондона и затяжного воздушного налета — с 9.30 до 4 утра — я была так легка, так свободна, так счастлива, что назвала «П.X.» стихами. Хорошо ли это? Думаю, нет, не очень. Должна сказать, ублажая В.В., если она хочет знать, что было в августе 1940 года, — воздушные налеты теперь как бы прелюдия. Вторжение, если оно состоится, то не позже чем через три недели. Люди доведены до предела. В воздухе треск; осы жужжат; сирена — Плачущий Вилли, пишут в газетах — пунктуальна, как звезды… Мы говорим, что мы здесь еще не испытали настоящих налетов. Два были на Лондон. Один застал меня в Лондонской библиотеке. Там я поняла, прочитав в «Скрутини», что миссис В., несмотря ни на что, лучше молодых. Это мне понравилось. Джон Бьюкен — «В.В. наш лучший критик со времен М. Арнольда, но мудрее и справедливее». Это мне тоже понравилось. Я должна написать Памеле. Продажи немного выросли.
P.S. к последней странице. Мы вышли на террасу; начали играть. Медленно и тяжело летел большой самолет. Л. что-то сказал Уэллсли. Тренировочный самолет, сказал Лесли. Неожиданно послышались поп, поп из-за церкви. Действующий, сказали мы. Самолет сделал круг над пустошью и полетел назад очень низко над землей и над нами. Потом словно град — поп, поп, поп… (как будто лопались шары). Самолет медленно и тяжело развернулся и полетел в сторону Льюиса. Мы не сводили с него глаз. Лесли разглядел черный немецкий крест. Все рабочие смотрели вверх. Это немец, нас осенило. Это враг. Он исчез в соснах за Льюисом и больше не появился. Потом мы услыхали жужжание. Поглядели вверх и увидели очень высоко два самолета. Они вроде должны были напасть на нас. Мы укрылись в моем домике. Но они развернулись, и Лесли разглядел английский знак. Мы наблюдали — они скользнули стороной, сделали петлю и гудели минут пять над упавшим самолетом, словно опознавая его и удостоверяясь в его падении. Потом они направились в сторону Лондона. У нас появилась версия, что самолет был подбит и искал, где сделать посадку. «Наверняка это был немец», — сказали мужчины; те мужчины, которые держат под рукой оружие. Это должна была быть мирная смерть, прискакавшая на террасу, где прохладным солнечным августовским вечером люди играли в шары.
Суббота, 31 августа
Мы уже в состоянии войны. На Англию совершено нападение. Впервые я по-настоящему осознала это вчера; ощущение давления, опасности, ужаса. Ощущение, что идет битва — жестокая битва. Продлится, возможно, недели четыре. Боюсь ли я? Временами. Самое худшее то, что наутро плохо работает голова. Конечно, это может быть началом вторжения. Ощущение давления. Бесконечные местные россказни. Нет — нет ничего хорошего в том, чтобы всеми силами предаваться чувствам, пробужденным войной, в которую вступила Англия. Должна сказать, если я буду писать художественную прозу и о Кольридже, а не инфернальную статью о бомбардировках для США, то уплыву в тихие воды.
Понедельник, 2 сентября
Как будто не было войны в последние два дня. Лишь одна воздушная тревога. Совершенно спокойные ночи. Затишье после налетов на Лондон.
Четверг, 5 сентября
Жарко, жарко, жарко. Регистрируем жару, регистрируем лето, если мы еще что-то регистрируем. В 2.30 гул самолетов; десятью минутами позже грохот воздушного налета; двадцатью минутами позже все тихо. Повторяю, жара и сомнение в том, что я поэтесса. «П.X.» — тяжелая работа. Голова — нет, не могу подобрать слово — скажем, слабеет. Идея. Все писатели несчастные. Поэтому картина мира в книгах слишком мрачная. Бессловесные счастливее; женщины в своих огородах; миссис Чейвасс. Нет правдивой картины мира; есть лишь картина, нарисованная тем или другим писателем. Счастливее ли музыканты, художники? Счастливее ли их мир?
Вторник, 10 сентября
Вернулись, пробыв полдня в Лондоне, — возможно, это был наш самый странный визит. Когда мы подъехали к Гауэр-стрит, там оказался барьер с указателем. Никаких признаков повреждений. Но когда мы приблизились к Даути-стрит — толпа. Мисс Перкинс в окне. Мекленбургская площадь огорожена. Никого не пускают. Нас тоже не пустили. В дом, что в тридцати ярдах от нашего, утром попала бомба. Он совсем разрушен. Другая бомба — на площади — не взорвалась. Мы обошли кругом. Постояли около дома Джейн Харрисон. Он еще тлел. Огромная куча кирпичей. Под ней все люди, которые были в этом доме. Клочья одежды на пустых, не обвалившихся стенах. Зеркало, подумала я, качается. Напоминает выбитый зуб — пустое место. Наш дом не пострадал. Даже окна целы — наверное, взрывная волна обошла их стороной. Мы увидели, как Бернал с перевязанной рукой прыгает наверху другой кучи. Кто жил там? Полагаю, обычные молодые мужчины и женщины, которых я видела из окна; обитатели квартир, разводившие цветы и посиживавшие на балконе. Теперь ни людей, ни дома. Механик на задах — с затуманенным взглядом, подергивающийся — сказал нам, что взрывной волной его выбросило из кровати; пришлось искать убежища в церкви. «Там было холодно и жестко, — сказал он, — и маленький мальчик лежал у меня на руках. Я повеселел, когда дали отбой. У меня все болело». Он сказал, что немцы три ночи подряд бомбили Кингс-Кросс. Они разрушили половину Аргилл-стрит и магазины на Грейз-Инн-роуд. Потом подошел мистер Притчард. Выслушал новости спокойно, как угорь. «Они в самом деле имели дерзость заявить, что это заставит нас заключить мир!..» — сказал он; он наблюдает за воздушными налетами с плоской крыши своего дома и спит как ни в чем не бывало. Итак, поговорив с мисс Перкинс и миссис Джексон — обе были спокойны — мисс П. спала на походной кровати в своем подвале, — мы отправились на Грейз-Инн. Оставили машину и увидели Холборн. Огромную дыру в начале Чэнсери-Лейн. Она еще дымилась. Какой-то большой магазин разрушен полностью; отель напротив похож на раковину. В винном магазине не осталось ни одного окна. Возле столиков стояли люди — полагаю, там обслуживали. Груды сине-зеленого стекла на мостовой на Чэнсери-Лейн. Мужчины выбирают застрявшие в рамах осколки. Падает стекло. Потом на Линкольн-Инн. К офису «Н.С.»: окна разбиты, но дом уцелел. Мы вошли внутрь. Пусто. Мокро. Стекло на ступеньках. Двери заперты. Возвращаемся к машине. Большая пробка. Кинотеатр позади музея мадам Тюссо разрушен; видна сцена; сохранились украшения зала. Все дома на Риджентс-парк с выбитыми окнами, но в остальном целые. Потом мили и мили обыкновенных улиц — вся Бейсуотер и Сассекс-сквер, как обычно — улицы пустые — лица напряженные, глаза затуманенные. На Чэнсери-Лейн я видела мужчину с тачкой музыкальных книг. Контора моей машинистки разрушена. Потом, на Уимблдоне, завыла сирена: люди побежали. Мы поехали по почти пустым улицам, стараясь продвигаться как можно быстрее. Лошади, рвущиеся из оглобель. Мчащиеся наперегонки машины. Потом отбой. Полагаю, людям сейчас невесело, скажем, на Хиткоут-стрит — впереди ночь; старые измученные женщины стоят в дверях домов; грязь, убогость. Несса сказала по телефону, что бомбы падают очень близко. Я считала себя трусихой, предлагая на предстоящие две ночи уходить из дома 37. И почувствовала облегчение, когда позвонила мисс П. и посоветовала нам не оставаться дома. Л. согласился.