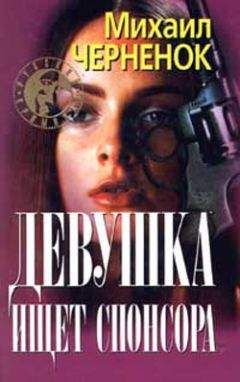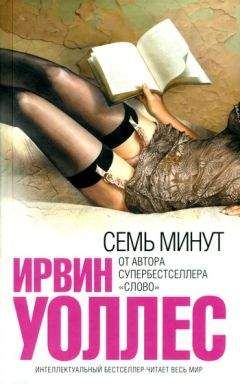Кто ищет... - Аграновский Валерий Абрамович
Ровно через год я снова, на сей раз вооружившись поручением «Известий», отправился в детприемник. Стены карцера и решетки на окнах были окрашены в нежно-голубой цвет. В баню детей теперь водили однополые надзиратели. Вместо четырех осужденных пришли другие люди, меня познакомили с новой надзирательницей, которую дети уже успели прозвать «одиннадцатиметровкой»: когда она давала «макаронину», пострадавший отлетал от нее, считалось, на расстояние, равное футбольному пенальти. При мне, конечно, она никого не трогала, но я случайно увидел, как она подошла к губастому мальчишке лет восьми, чтобы сделать ему замечание, и, быть может, даже вполне невинное, а он привычно поднял руки и закрыл ими голову. Про этого губастика мне сказали, что он один опровергает все дурные мнения о приемнике: раз десять убегал из дома и, словно намагниченный, сам приходил на Даниловский вал, 22. Каждый раз его для острастки сажали на трое суток в карцер, потом переводили в «отделение» месяца на два, пока списывались с его родителями, если не ошибаюсь, в Тюмени и сколачивали группу в том направлении, затем с экспедитором отправляли домой, и через полгода он возвращался в приемник. Я отвел губастика в сторону, присел перед ним на корточки, посмотрел ему в глаза и тихо спросил: «Здесь лучше, чем дома?» Он длинно и прерывисто вздохнул, тоже посмотрел мне в глаза и шепотом ответил: «Ага, здесь печенье дают». Я дописал первую статью, прибавив несколько новых абзацев, в том числе эпизод с губастиком, и начиналась она уже так: «Трижды судьба сводила меня с этим домом, не дай вам бог увидеться с ним хоть единожды…» По уже знакомой причине статью не напечатали, но нам вновь удалось создать комиссию.
Я далеко ушел от Бориса и скоро вернусь к нему, хотя возвращение будет безрадостным, так что уж лучше оттянуть этот момент.
На Даниловском валу меня ждали примерно так, как в продовольственном магазине — контрольную закупку: со страхом и неприязнью. Однажды вся комиссия попала на праздник песни, который проходил в подвале-клубе. Хор строем вывели на сцену, их было человек пятьдесят, стриженных, как один, под «нулевку», Серов шепнул мне хвастливо, что ни в одной школе я не найду такой массовости. Они запели «Бухенвальдский набат»: «Люди мира, на секунду встаньте…» — это было совершенно невыносимое зрелище. Я вновь дописал статью. А потом, через два года, снова пришел в детприемник, уже по поручению журнала «Юность». И еще через полтора года. В конце концов статью напечатали. Через десять лет. Она прошла в «Комсомольской правде» 16 февраля 1966 года под названием «Конец холодного дома» и вполне могла бы начинаться словами: «Шесть раз судьба сводила меня с этим домом…»
Я все-таки их дожал.
Годом раньше мы с Анатолием похоронили маму. На ее имя шли от Бориса письма, в том числе пришло и последнее, у меня сохранившееся. Он давно вырос из детдомовского возраста, получил профессию фотографа и работал по оформлению витрин и залов калининградского универмага «Маяк». Борис писал моей маме, что дела его складываются прилично, вот только иногда побаливают почки, приходится полеживать в больнице, о детприемнике он и думать забыл, — это, вероятно, в ответ на мамин вопрос в одном из ее писем. Все время, писал Борис, уходит на работу и еще на славную девушку по имени Галя, ее выдвигают на заведование секцией, а фамилию ее писать нет смысла, тем более что продавщицы универмага зовут друг друга не по фамилиям, а по именам и отделам, в которых они работают, и звучит это забавно, почти как у Фенимора Купера: Джон Ястребиный коготь, Таня Мужская одежда, Вера Головные уборы, а вот его Галя — Хозяйственные товары, и мне приписка: приезжайте, дядя Валера, для вас тут найдется о чем писать.
Штат надзирателей к моменту публикации статьи уже был распущен и заменен «воспитателями». Майора Серова наконец сняли. Приемник был отдан в ведение Министерства просвещения, хотя работники МВД с него тоже глаз не спускали. Студенты педагогических вузов проходили теперь там практику. Карцеры позакрывали. Ввели нормальную систему обучения по школьной программе. Организовали труд: девочки шили на машинках, мальчишки делали ящики, малыши клеили конверты. Немного улучшилось питание детей, но не потому, что прибавили денег, а потому, что стали следить, чтобы меньше воровали. «Отделения» переименовали в «отряды». Не скажу, чтобы картина стала идеальной, что детприемник в результате этого косметического ремонта превратился в санаторий, но дело явно сдвинулось с места, сдвинулось к лучшему, да и я еще не поднял руки вверх.
В ноябре 1968 года в Свердловске, куда я был командирован «Комсомольской правдой», меня вдруг догнал первый инфаркт и на месяц уложил в местную больницу. Потом в сопровождении медбрата я отправился в Москву на долечивание. В купе поезда нам достался сосед, о котором Юрий Карлович Олеша, казалось, и написал в «Зависти», что по утрам он «пел в клозете»: примерно одного со мной возраста, физически очень сильный, высокий, с жестким бобриком на круглой, как шар, голове и кого-то чем-то напоминающий, то ли члена правительства времен первых пятилеток, то ли известного полярного летчика, фотографии которого печатались до войны в газетах, он был невероятно деятельным, выбегал из вагона на каждой станции, шумно распаковывал и вновь упаковывал кому-то или от кого-то подарки, напевал при этом и заразительно посмеивался. Он был директором то ли треста, то ли объединения в Свердловске, ехал в Москву выбивать какие-то лимиты, был абсолютно уверен, что выбьет, — можно было завидовать его неиссякаемому оптимизму. Говорил он без умолку и однажды спросил, кто я по специальности. Лежа почти не двигаясь на нижней полке, я сказал, что — журналист. Тогда сосед не без гордости заметил, что был лично знаком с одним крупным журналистом. Я спросил, с кем именно, и он ответил: с «самим» Аграновским! Когда в моем присутствии хорошо говорят об Аграновском, во мне мгновенно срабатывает комплекс младшего в семье, и потому я всегда, и теперь и прежде, отношу похвалу на счет отца или брата. Короче, я уточнил: с Анатолием? Сосед ответил: «Зачем? С Валерой!» Я смутился и пробормотал, что впервые вижу собеседника, но «Валера» — это я. Он страшно возбудился, схватил меня в могучие объятия, стал тискать и попытался зачем-то поднять с полки, мед-брат с трудом меня отстоял. Сосед требовал, чтобы я внимательней в него вгляделся, ведь мы вместе спали с ним, как он выразился, «на одних нарах», и только тогда, действительно вглядевшись, я сообразил: господи, да это же Вася Блюхер, сын легендарного командарма, и мы в самом деле подружились в том проклятом приемнике тридцать с лишним лет назад. Едва выписавшись из больницы, я, конечно, тут же отправился на Даниловский вал, 22, предварительно созвонившись с новой начальницей, которая называлась теперь директором. Меня встретила немолодая женщина с университетским ромбом на лацкане по-мужски скроенного пиджака. Ее, как я понял с первых же слов нашей беседы, более всего волновали причины, по которым дети оказывались безнадзорными. К концу разговора она вдруг спросила, может ли задать мне «личный» вопрос. Разумеется, сказал я. «Простите меня, пожалуйста, — начала она, — Фаня Аграновская имеет к вам какое-нибудь отношение?» — «Это моя покойная мама», — ответил я удивленно, ничего еще не понимая. Тогда она молча вынула из старого своего ридикюля блеклую фотографию, на которой неведомый мне любитель запечатлел двух молодых и красивых женщин. На фоне серой стены, вероятно, прогулочного дворика. В одинаковых полосатых одеждах. Одна была моей мамой, другая — собеседницей.
Круг замкнулся.
Еще несколько слов о печальной судьбе Бориса. Когда он перестал писать, я подождал немного и сделал официальный запрос в дирекцию универмага «Маяк». Но прежде чем мне ответили, пришло письмо от Галины. Девушка сообщала каким-то совершенно отстраненным текстом, лишенным эмоций, что Борис, оказавшись на операционном столе, прожил после резекции левой почки около недели. Его похоронили в Калининграде.