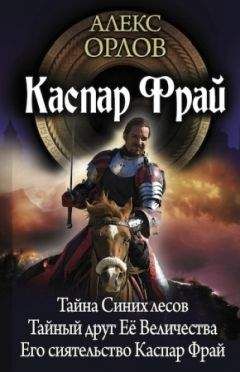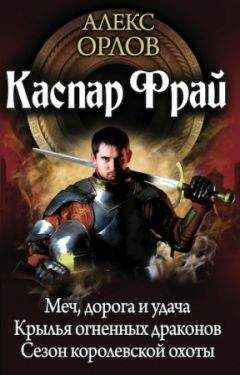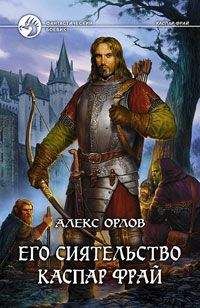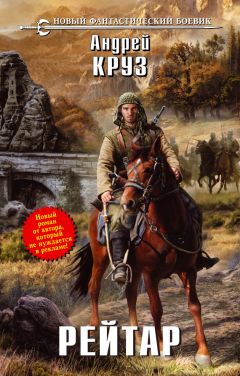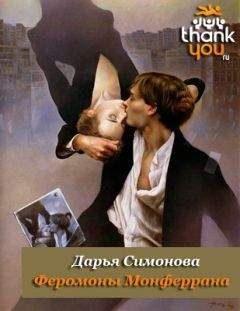Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
– Сейчас господин Коленкин изволили мне насчет венгерского приказать, потому как, бымши они в Питере, заприметили, что шенпанское из моды вышло…
– Вышло?
– Так точно-с…
– Коленкин! вышло, в Питере из моды шенпанское?
– В рот никто не берет, потому жрет его ныне всякая голь, – отвечал Коленкин.
– О!.. Ну, ин так! Подай венгерского, да прихвати картишки, – мы в трынку для скуки сыграем.
V
То поднимаясь на высокие холмы, то спускаясь с них в широкие и грязные площади, медленно валила за крестным ходом громадная сила народная. Общее дыхание ее, долетавшее, казалось, до далеких небес, обманывало близорукий глаз видимой крепостью груди, из которой вылетало оно, потому что главная нота в этом громовом гуле толпы до смерти сокрушала чуткое ухо своей необыкновенной, медленно и мучительно убивавшей, печалью…
– За-а-ступ-ница усердная! – вскрикивала маленькая, изнуренная бабенка, с желтоватым, сморщенным лицом, выделяясь из толпы на дорогу, по которой длинной цепью тянулись экипажи и парадировали жандармы. Высоко подняла она руку, чтобы перекреститься на высокую хоругвь.
– Эй! Куды под экипажи лезешь? – предостерег ее бравый жандарм, манерно потряхиваясь на лошади и побрякивая, вследствие этого, палашом.
– Ах, милые! Я и не знала… – запугалась бабенка, как бы каменея на опасном месте.
– Па-а-ди! Стар-ронись, баба! Эй, женщина, берегись! – на разные лады выкрикивали бородастые кучера.
– Что же ты? Что же ты расселась-то здесь? Задавят сейчас! – говорил жандарм, командирски помахивая на бабенку своей белой перчаткой.
– Рада бы, рада б я сейчас отсюда, кормилец, да не знаю как. Трясутся у меня поджилки-то, ноги-то у меня не стоят. Испугалась я тебя.
– Ну-ну, бог с тобой! Поднимайся, – я тебя не трону, проходи. Ах, какие эти бабы чудные! – подивился жандарм, догоняя товарища. – Как они нас боятся! Не в пример пуще пехоты боятся.
– Как же им нас не бояться? – ответил товарищ. – Одно слово: лифантерия! Опять же ты-то возьми в расчет: то человек на коне сидит в тонком платье, при белых перчатках, а то так человек – пешком, в серой шинели. Что ж его бояться-то?
– Верно!
Из узкого бокового переулка выскочил вдруг пожилой мастеровой в синей чуйке, с длинной черной бородой, с унылым лицом, смотревшим как-то вкось. Долго смотрел он на крестный ход, любопытно провожая его мутными глазами, потом вдруг повалился в ноги какой-то старушке, вместе с другими пробиравшейся за процессией, и с обильно полившимися слезами закричал ей:
– Бабушка! прости ты меня, Христа ради! Не взыщи ты с меня, стар человек! Для бога не взыщи! Видишь вон, святые образа идут, священники, бабушка, из всех церквей даже собрались…
– Пусти-ко, пусти-ко ты меня поскорее, мастеровщина! – испуганно отбивалась от него старушка. – Что, я тебя трогаю разве? Вишь, для праздника начесался!
– Бабушка! я ничего, я ей-богу ничего! – продолжал взывать мастеровой. – Я не начесался, а потому как я имею добрую душу, жалосливую, я и сказал хозяину: «Что это ты, мол, хозяин, в праздник нас работой трудишь? За это тебе на том свете худо придется». Я ему из жалости сказал, а он в морду… За что? Нет, стой! Погодишь немного в морду-то. Ноне за это строго…
С легкими смешками и над приостановленной старухой и над мастеровым провалила толпа дальше, а сам виновник этих смешков тут же уткнулся под забор в мокрую траву и бормотал:
– Я ведь ему из жалости… Я ведь правду сказал, что грех, что праздник, мол. Ан оно по-моему и вышло: со всех церквей собрались, празднество большое, а он работать… Не-е-т! Не очень-то тебя за это жаловать будут…
В то же время в дорогой коляске Переметчикова, следовавшей за ходом, самым сладким образом разговаривая между собой, сидели сам Абрам Сидорович Переметчиков и вчерашний старичок-чиновник.
– Я тебе, Абрам Сидорыч, не все вчерашнего числа рассказал, – поучал старичок, – потому при людях неловко было. Старые люди советуют, чтобы как можно меньше народа знало про такие дела. Посоветовал я тебе взять кого-нибудь на призрение, только что же с этого будет? Мало ли благодетелей, какие на призрение к себе бедных людей берут? Самое главное в нашем разе, чтобы как-нибудь нам так исхитриться, чтобы никто не приметил и не догадался, как и за каким делом мы того человека брать будем. Попросту сказать ежели, без затей, так – как бы украсть надо. Да! Действительнее так-то. В старину так делывали, потому ведь незаправское воровство, – значит, стыда тут нет никакого. Понял?
– Понял! – утвердительно отвечал Переметчиков.
– Ну, хорошо! Теперь, ежели нам матушка-Царица Небесная в этом деле поможет, умей ты так поступать с несчастным, чтобы беречься тебе от разоренья его счастьем и благочестьем. Тут опять, сказываю я тебе, по старине поступай: как молодцы пойдут в лавку, так чтоб они беспременно с собой убогого человека прихватывали, для того, чтоб он самым первым покупателем был. Примерно сказать, на гривенник ли, или же хота на семитку, только чтоб убогенькому прежде всех товару какого ни на есть отпустили. Верь ты мне: отбою не будет от покупателей.
Столовая в арестантском доме. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1873 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Ах, друг ты мой великий! – восклицал Переметчиков. – Чем я тебе за твои благодеяния отплачу только?
– Благодарность что? Нам не нужно ее, – нам лишь бы хорошему человеку хорошее сделать. Ты вот теперь высматривай получше человека-то.
– Во все глаза смотрю, окромя как пятеро молодцов приказ от меня с самого утра получили, чтобы как только увидят что-нибудь подходящее, сейчас же мне бы докладывали.
– Ну, это чудесно! – похвалил приказный купеческую предусмотрительность, затем он перекрестился и с набожным и вместе с тем решительным вздохом, означающим приступ к самому делу, окончательно отдал это дело во власть Божью, проговоривши: с Богом!..
И было тут много людей, которые бросались в неопытные глаза Абрама Сидоровича своим убожеством, ранами, железными посохами, нечеловеческими криками; но старичок упорно отвертывался от обыденного страдания и, на рекомендацию купца – взглянуть на ползающую по грязи старушку или на перекошенного параличом и безрукого мужика, сердитым, наставительным тоном говорил:
– Не наша! Не наш!
Порой к коляске подбегали уставшие, запотелые молодцы и впопыхах докладывали:
– Видел я, сударь Абрам Сидорович, сичас паренечка одного, – ах, жалости подобен! Глух и нем от рожденья, язвины этта на ем все тело покрыли, – смотреть страсть! Только, этта, улыбка у него по лицу беспрестанно ходит, и такая-то улыбка райская! Ах ты, Господи, подумаешь, до какой святости человек дойдет!